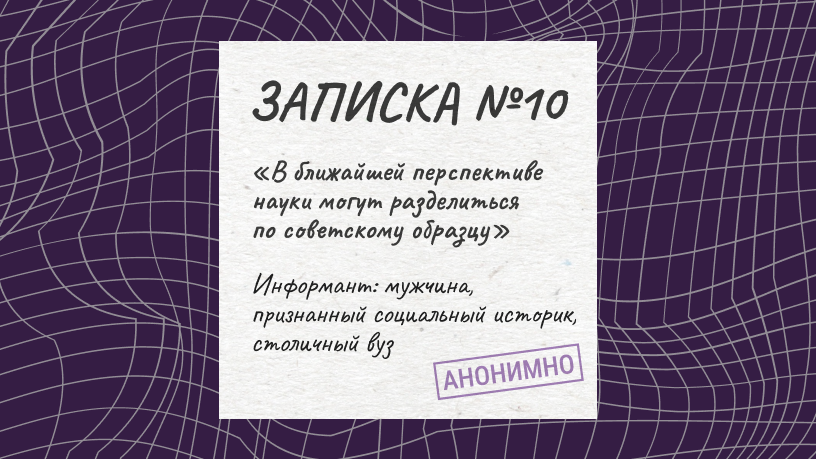
«В ближайшей перспективе науки могут разделиться по советскому образцу»
Трудно сказать, какой будет цензура через год или два. Раньше я не очень верил в радикальное ухудшение ситуации, но сейчас очевидно, что наверху могут придумать какие-то новые странные законы. Я занимаюсь социальным анализом в исторической перспективе и ничего не пишу о текущей политике, не затрагиваю ничьих интересов. То есть мои книги представляют собой, если можно так выразиться, чистую науку. Но поскольку неизвестно, что ещё случится в ближайшие год-два, стараюсь успеть сделать как можно больше.
Пытаться как-то экстраполировать паттерны прошлого на нынешнюю ситуацию — это, скорее, по линии политологии. Когда-то я писал о недавней истории России, но лет пятнадцать назад всерьёз занялся социологией. Я не пытаюсь прогнозировать будущее страны (это невозможно) и даже не пытаюсь сравнивать нынешнюю ситуацию в России с каким-то периодом в её истории. Я смотрю на долгий путь развития, пытаясь понять, почему страна развивалась так, а не иначе, и сравнивать траекторию её общественного развития с тем, что происходило в других странах. При этом меня не меньше волнует, например, почему Испания развивалась не так, как Франция или Англия. Для того, чтобы понять Россию, надо сравнивать самые разные страны.
Один из стимулов заниматься наукой — то, что всё чаще от коллег доводится слышать рассуждения в духе: Россия страна безнадёжная, у неё какая-то рабская культура, то ли генетически заложенная, то ли идущая от Ивана Грозного, то ли от Орды, со времён которой ничего не изменилось.
Детальный же анализ исторического пути показывает, что это не так. Самые разные проблемы можно объяснить рациональными причинами. И чем детальнее мы это делаем, тем яснее становится неуместность подобных штампов. По мере научного продвижения у меня прибавляется оптимизм, но не в смысле предсказания прекрасного будущего. Оказывается, Россия — обычная страна, которая развивалась то лучше, то хуже, как и многие другие европейские страны.
При этом я понимаю и пессимистов, предрекающих катастрофу России. Их позиция часто обусловлена личными обстоятельствами: они осознают, что в силу возраста могут не застать перемен к лучшему в стране. Но здесь нет чисто научного интереса, желания выяснить, что на самом деле происходило в историческом прошлом. Я понимаю, что в этом смысле я в этой жизни тоже, видимо, проигравший. Но у меня есть научный интерес к тому, как это всё устроено на протяжении многих лет, как идёт развитие общества, почему происходят какие-то повороты. И этот интерес меня поддерживает.
Лет пятнадцать назад, когда я ещё многого не знал в плане детального исторического контекста, мне было труднее спорить с пессимистами. Сейчас же иначе: в ходе моих дискуссий мне есть что ответить оппонентам, поскольку я уже много накопал материала. Для России, как и для любой другой европейской страны, нормальное развитие не закрыто, поскольку в прошлом ничего такого фатального для нас не было. При этом можно вспомнить, что в ходе обсуждения проблем развития той же Испании так же использовались тезисы о некоей культурной ущербности. Моя точка зрения заключается в том, что есть понятие модернизации, которое касается абсолютно всех обществ. Сто или тысячу лет назад все были другими: и Англия, и Россия, и Португалия, и Финляндия. А вот как происходят перемены, почему в Англии они одни, в Португалии другие, а в России третьи — вопрос конкретных исследований. И тут никаких общих штампов быть не может.
Я вижу, что среди интеллектуалов и лидеров общественного мнения много тех, кто занимается «торговлей пессимизмом». Профессиональные историки, с которыми я общаюсь, как могут сопротивляются этому, потому что они детально знают свой век, свою страну. А торговцы пессимизмом — часто культурологи или журналисты, склонные к обобщениям.
Но эти обобщения они делают на базе не конкретного анализа, а каких-то общих представлений. Задача же социологии — профессионально заниматься большими сравнениями, когда для этого есть и более широкая база, и знание деталей.
После мобилизации многие молодые люди лишились прежнего нормального существования, их жизнь стала более рискованной. Это стимулирует интерес не только к тому, что происходит, но и к тому, что этому предшествовало, как мы пришли к этой жизни. Это мои рассуждения на уровне здравого смысла, поскольку я как социолог не изучаю современное общество. Я могу многое упускать из текущего анализа состояния общественного сознания. Но я, разумеется, в курсе текущих дискуссий о том, насколько отражают реальность методы социологов, в первую очередь количественные, поскольку они все время показывают какие-то ужасающие картины. Когда же начинаешь разбираться, всё оказывается не совсем так, как кажется какому-то интерпретатору-журналисту.
Что касается трансграничных отношений с коллегами, то я не вижу жёстких столкновений между теми, кто уехал, и теми, кто остался. Упомянутый пессимистический подход может проявляться и уехавшими, и оставшимися. А те же разговоры о «хороших русских» касаются не трансграничных отношений, а жизни в эмиграции. У тех, кто остался в России, проблемы несколько другие в силу оторванности от мира. Я понимаю, что, скорее всего, уже не увижу Европу, которую очень люблю. У меня нет визы, я не хочу тратить на её получение ни моральные, ни физические силы. То есть появились трудности, которые я не хочу преодолевать. В итоге я отрезан от мира, в котором очень заинтересован профессионально и о котором так много писал, анализируя и сравнивая культуры разных стран в прошлом, стараясь показать, почему это важно для России.
Невозможно предсказать, что и как поменяется в плане использования научного языка. Вдруг что-то, что ты привычно выражаешь, завтра уже будет недопустимо? Или окажется, что я, читая Шекспира, оказываюсь под иностранным влиянием?
Я уверен, что если бы у меня был разговор с Путиным, то он бы сказал: «Что за глупость, никто тебя за чтение Шекспира не накажет». Но когда дело дойдёт до конкретного судебного разбирательства, кто знает, как будет интерпретировать Шекспира тот или иной судья.
Каких-то западных социологов могут представить как оказывающих тлетворное влияние. Пока что цитировать авторов, на которых я ссылаюсь, не опасно, но вспоминается недавняя история с биографией Пазолини, часть которой оказалась замазанной чёрной краской. И я понимаю, что, если бы занимался проблемами современного кинематографа, что-то написать уже не смог бы в силу действия какого-то нового российского закона. Это уже влияет на состояние социальной науки в России сегодня и может влиять ещё больше в будущем.
Я ожидаю большого переструктурирования социальных наук в России. Например, я плохо понимаю, как можно будет развивать такую науку, как политология. Но какие-то науки, не касающиеся болевых идеологизированных точек, будут нормально выживать. Может возникнуть ситуация, похожая на ту, что была в советское время: когда я учился, можно было чётко назвать сферы знаний, которые были ненаучными или даже антинаучными (история КПСС, научный коммунизм или политэкономия социализма). А были науки, которыми можно было заниматься с минимумом ограничений, и тут появлялись классные специалисты, скажем, в области медиевистики или востоковедения. Такие люди, как Арон Гуревич, Борис Поршнев или Александра Люблинская, были учёными с мировой известностью, которых постоянно цитировали на Западе.
Может получиться так, что в российской социальной науке разовьются какие-то промежуточные области, когда о науке в строгом смысле говорить будет нельзя, как это было в советское время, скажем, с политэкономией капитализма. Но можно будет — опять же, как и в советское время, — свободно реферировать некоторые западные книги, чтобы рассказать российскому читателю, как это у них там работает (при этом добавляя нужное количество цитат из Маркса или Брежнева, которые не влияют на суть). Я боюсь, что подобное разделение наук у нас вполне может произойти в ближайшем будущем.