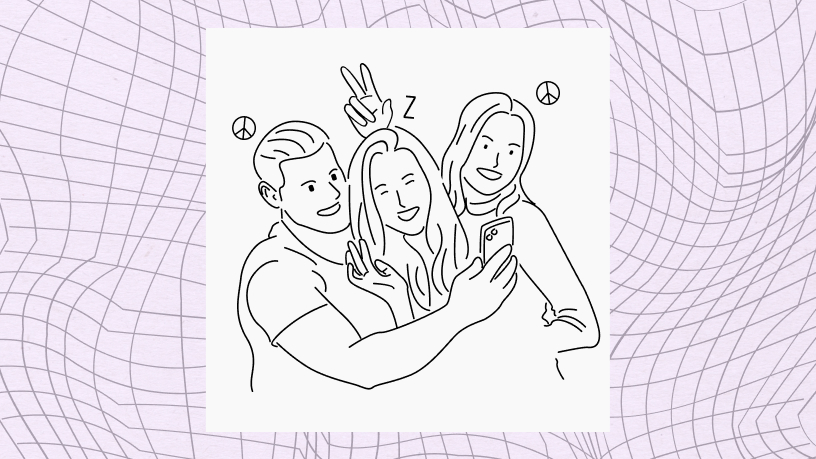
T-invariant продолжает проект, в рамках которого российские учёные и преподаватели на условиях анонимности рассказывают, как меняется их жизнь и их труд в условиях войны и тотального «закручивания гаек». В очередной записке молодой преподаватель политологии, аспирант одного из столичных вузов рассказывает, почему различия между провоенно и антивоенно настроенными студентами скорее субкультурные и как кромешный пессимизм иногда сменяется осторожным оптимизмом.
Я начал преподавать в марте 2022 года, как только началась война. Я давно готовил школьников к экзаменам, и мне было интересно, как политизируется поколение тех, кто младше меня лет на 12. Я преподаю современную российскую политику, базовый предмет, так что нам сложно её не обсуждать, мы только этим и занимаемся.
Как у многих, у меня был страх после новостей о доносах на преподавателей, потому что у меня есть провоенно настроенные студенты. Но достаточно быстро оказалось, что всё не так страшно, потому что провоенно настроенные студенты — это что-то вроде субкультуры. Они понимают, что есть левые и правые, люди провоенные и антивоенные. Я активно веду социальные сети, и провоенные студенты относятся ко мне скорее как к оппоненту, а не как к врагу, которого надо подавить во что бы то ни стало.
К другим студентам они относятся так же. Есть те, кто посещает мероприятия военкоров, но у них есть однокурсницы-феминистки. Они друг над другом посмеиваются, устраивают споры и дебаты, но это все какие-то субкультурные различия.
За несколько лет преподавания на меня никто из студентов не донёс и не угрожал этим. Важна некая харизма, умение заинтересовать их предметом, готовность слушать — тогда они к тебе оказываются расположены вне зависимости от твоих взглядов. Меня больше пугают студенты, которые не ходят на занятия, а потом внезапно вспоминают, что по моему предмету надо что-то сдать. Тут уже могут возникать конфликты на учебной почве, и тогда кому-нибудь может прийти в голову и политические вещи сюда «подтянуть».
Важно понимать, что мои студенты политизировались в другое время — у них не было даже той небольшой практики, что была у меня как у активного студента, участвующего в электоральном процессе. Для нас тогда было абсолютно нормальным в официальной группе факультета ВКонтакте давать объявления о наборе в штаб оппозиционного кандидата. Многие работали на Навального в 2013 году, сам я с 2014 года работал на кампаниях оппозиционных кандидатов, а потом набирал ребят-политологов в штабы независимых политиков. Сейчас это почти полностью исключено. И хотя некоторые мои студенты работали на выборах (например, в штабе Надеждина), это всё эпизодически. Постоянного политического проекта и инфраструктуры (скажем, наблюдения) не остаётся. Нет больше работы для независимых медиа и аналитических центров, к чему раньше с пониманием относилось даже руководство факультета.
Многие студенты следят за независимыми блогерами и медиа, для них это важная политическая социализация. Прямо на семинарах они говорят про 1990-е в связи с фильмом Певчих, про приватизацию после Ходорковского у Дудя. Они очень критично на многое смотрят. Происходящее им не нравится, поэтому я достаточно быстро в аудитории себя начал чувствовать довольно безопасно. У студентов же ощущение риска намного более притуплено, а мне не хочется их ограничивать в рассуждениях. Например, когда моя студентка пишет эссе про права человека в Чечне, то, с одной стороны, она делает необходимые сноски, упоминая нежелательные экстремистские организации, а с другой — я понимаю, что никто не будет никогда смотреть, что там загрузила какая-то студентка в LMS (система управления обучением. — T-invariant).
Когда другие студенты делают доклад, например, о присоединении Крыма и просто воспроизводят официальную позицию, то однокурсники могут разнести их в пух и прах, доказывая, что это было незаконно, что это аннексия. Иногда, например, рассказывая про правые движения, студенты выводят на экран всякую запрещённую символику, например, символику РДК — в такие моменты я даже начинаю бояться за них. Думаю, не надо ли мне им объяснить, что так делать опасно. Меня же лично скорее пугает возможность попасть под лупу каких-нибудь провоенных блогеров.
При этом за последнее время у меня интенсифицировались контакты с коллегами, с которыми мы одинаково смотрим на вещи.
После двух лет оцепенения у многих появилась потребность заново собрать сообщество, свободную инфраструктуру семинаров, ридинг-групп, в том числе для студентов. Это приходится делать полуподпольно, не анонсировать публично. Например, я только случайно узнал, что в Петербурге подходила некая полусекретная научная конференция. Приходится постоянно искать баланс между желанием коммуницировать и безопасностью, но чтобы не уходить в глубокое шифрование.
Я понимаю оптимизм некоторых людей. У меня ещё есть ощущение, что всё впереди, что есть параллели с дореволюционными кружками. Мы можем обсуждать радикальные, но непонятные властям тексты публично. Так, например, устраивались публичные ридинги по «Пиратскому просвещению» Дэвида Грэбера или книги «Думай как антрополог». Её переводчик Армен Арамян — разыскиваемый уголовник по делу «Доксы», но этого не замечают, так как это слишком узко.
Странность нашего времени в том, что оно в каких-то деталях напоминает советскую или дореволюционную диктатуру, а в некоторых — абсолютно этот образ рушит. Маленькое издательство выпускает книжку с некрологом про анархиста, который погиб под Бахмутом на украинской стороне, и эта книга продаётся. Мы можем со студентами обсуждать Мишеля Фуко, потому что это хотя и радикальная, но уже классика. Власти, чтобы вытравить остатки свободы, нужно приложить слишком много усилий. Поэтому в магазине где-то за колонной можно найти книги про гендер и сексуальность. Мои товарищи из более авторитарных стран уже не могут себе такого представить: хоть и узкого, но всё же пространства свободы.
В нашем университете девушки создали ридинг-группу и спокойно обсуждают феминистские тексты. Силлабус моего курса наполовину состоит из Григория Голосова и Владимира Гельмана, книги которых спокойно можно купить, а затем обсуждать со студентами электоральный авторитаризм. На книжных полках есть и разнообразные иноагенты, и их становится все больше. Казалось бы, это достаточно быстро заметят — но нет, вот уже третий год мы обсуждаем фальсификации на выборах и так далее. А книжку Гуриева и Трейсмана «Диктаторы обмана» купить нельзя, но её электронная версия доступна, и мы со студентами периодически её упоминаем.
Жить по принципу «как бы чего не вышло» — неправильно. Периодически накатывает страх, хочется всё опасное убрать, но я хватаю себя за руку: нет, пока к тебе не пришли и не приказали убрать, не надо этого делать самостоятельно. Так я пытаюсь бороться с самоцензурой. Стремление восстанавливать нормальное академическое общение связано с некоторым привыканием. Да, сейчас война, многие уехали, но ты не сидишь на чемоданах, и у тебя появляется потребность вернуть контроль над собой. Не сидеть и не ждать, когда Путин объявит новую мобилизацию, а пытаться сохранить здоровое начало. Привыкнуть к репрессиям нельзя, но мы переизобретаем то, что было раньше, соблюдая определенные протоколы безопасности — например, ничего не фотографируя во время мероприятия. Просто ничего не делать тоже нельзя, и это то, что приходит вместе с принятием реальности, с пониманием, что новые правила плюс-минус устаканились.
Если ты уверен в человеке, ты его зовёшь и на подпольное научное мероприятие, и на вечер писем политзаключенным, информация о которых распространяется через чаты, в которых состоят проверенные люди. Это адаптация не просто психологическая, но ещё и конкретно-инструментальная — чтобы продолжать своё дело ради интеллектуальной сферы в целом.
И всё же остаются качели от осторожного оптимизма к кромешному пессимизму. Причём пессимизм часто связан даже не с тем, что происходит в России. Мы видим, как в мире углубляется экологический кризис, как происходит наращивание военного потенциала не только в России, но и в Соединенных Штатах, и в Китае. Опасно снижается взаимозависимость американской и китайской экономик. Это наталкивает на неприятные размышления о мире перед Первой мировой войной. Глобальное противостояние и экологическая ситуация ударят по всем — независимо от того, будет в России демократия или нет. Но осторожный оптимизм вновь оживает, когда я вспоминаю, что возможности сопротивления не ограничены очень сильно, что чрезвычайно важно сохранять то, что я ещё не знаю, как описать.
Мне кажется, здесь подходит понятие «субкультуры» — протестной, критической. Она сохранялась в годы Пиночета, она смогла раскрыться после падения его диктатуры, когда вокруг локальных сообществ начали собираться большие группы. Свою задачу я вижу в том, чтобы показать студентам, что это есть, что приводимые исторические примеры не дела давно минувших дней, что всё ещё можно критически относиться к властям, что таких, как они — много. Пусть это не какие-то активные действия, но само сохранение и выращивание социальных связей могут в какой-то момент стать решающими.
Задача состоит в том, чтобы не только сохраниться, но быть готовыми к открытию возможностей. А возможность политического участия — такая вещь, которая всё равно в какой-то момент прорывается, как это было, например, когда погиб Алексей Навальный.
Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.
Я однажды был на одной ридинг-группе, а после нее мы пошли возлагать цветы на могилу Навального. Для нас его гибель была опустошительной, но когда мы пришли на кладбище, увидели многих других людей. Оказалось, что в этот вечер на улицы вышло большое количество людей. Под страхом полиции, под страхом того, что Навальный объявлен экстремистом и тебя могут записать во что-то непонятное. Огромное количество людей стекалось к памятникам жертвам политических репрессий. Есть осторожный оптимизм: надо выстраивать эти социальные связи, препятствовать тому, чего хочет российский политический режим, а именно нашей атомизации.
Сделаю важную оговорку: необходимо понимать, когда политика подменяется медиаполитикой. В эмиграции возможности повлиять на то, что происходит внутри страны, очень ограничены. Это момент, когда политика превращается в медиаполитику, в борьбу за просмотры и лайки. Кажется, что это будет иметь какой-то политический эффект, но на самом деле большого политического эффекта это не имеет. Хотя бывают случаи, когда политик за рубежом совсем уже оторвался от реальности россиян, как в случае с Гарри Каспаровым. Некоторым моим студентам это интересно, они пытаются разобраться, почему у оппозиции ничего не получается. Понятно, что их интересует сам характер авторитарного режима в России, но они больше склонны обсуждать проблемы в рядах самой оппозиции.