
В современных спорах о России и Украине многое зависит от того, откуда и кто смотрит на события. Но сторон рассмотрения оказывается больше, чем две. Историк Александр Дмитриев, который родился в советском Херсоне, научную биографию выстраивал в постсоветской России, а с лета 2022 года стал исследователем в Федеральной политехнической школе в Лозанне (EPFL), рассказал Евгении Вежлян для рубрики «Есть смысл» о том, влияет ли биографическая траектория «между» Россией и Украиной на его понимание происходящей катастрофы, о том, почему 74 советских года прекратили течение российской истории, о том, как Украина оказалась слепым пятном постсоветской гуманитаристики и можно ли теперь это как-то исправить.
T-invariant: Что в твоей жизни, в твоей профессиональной траектории, изменилось после 24 февраля?
Александр Дмитриев: Самая, наверное, острая эмоция (хотя, может быть, она и неправильная, если эмоции бывают неправильными) — чувство поражения. Личного, поколенческого, всей «среды». И еще боль за тех, кто в Украине, моей — и не моей, кому много хуже. Хуже, чем было раньше. Предыдущая жизнь разломились на 16 лет в Херсоне, потом два раза по 16 в Российской Федерации. И хотя первая треть, большая часть которой приходится на детство, возможно, и видится как подлинная, настоящая — ты все же не можешь перечеркнуть или закрыть, как книгу, следующие две трети.
Я уже довольно давно поймал себя на том, что если меня спрашивают о национальности, то внутренне правильнее всего ответить: «Я — херсонец».
В молодости, в 1990-е и позднее, я проводил очень много времени в Херсоне, да и вообще в Украине: Киеве, Одессе, потом уже были Львов и Харьков. Но, кстати, не Крым… Так вышло раньше, что Россия вне Москвы и Питера была мне не настолько интересна и важна, ощущение «своей страны» от Российской Федерации у меня если и было, то скорее как питерца или потом москвича, но вот само чувство страны довольно долго было связано с бывшим Советским Союзом. Теперь (да и давно) — это только безвозвратное прошлое, много раз перечеркнутое.
Я дальше буду говорить про мы с неизбежностью то в кавычках, то без. Неловко «говорить за всю среду», приходится сбиваться на я — переставать прятаться в удобном академическом множественном лице, уходя от уклончивого «как мы заметили раньше». Сейчас для меня принципиально заниматься не только своим привычным формализмом или развилками 1920-х, но также историей второй половины XX века, чтобы понять истоки нынешнего поражения, понять, как и почему это случилось. На мой взгляд, пружина, сорвавшаяся 24 февраля, на самом деле начинала скручиваться в каком-нибудь безмятежном, ничем не примечательном году брежневской конституции, 1977-м, в самые тихие, спокойные, но и душные, тупиковые брежневские годы.
T-i: Правильно ли я понимаю, что ты видишь истоки нынешней катастрофы, если воспользоваться тем словом, которым называет ситуацию Николай Плотников в своем сборнике, не в российском «имперстве», как это сейчас часто принято говорить, а в позднесоветской истории?
АД: Да, именно так. Мне кажется, что 74 советских года создали принципиально новое качество истории на этом пространстве северной Евразии, и — я нарочно говорю максимально жестко — прекратили течение прежней русской истории. В год моего рождения, 1973-й, никакой русской истории не было. Украинская, татарская (и по всему многоцветью) — оставались, а русская история по сути растворилась в советской, была от нее не отличимой. «Старая» история кончилась после 1917 года, кончилась не сразу. Культура на русском языке продолжалась, и мы называем её русской культурой на автомате, by default, а вот с Россией как страной, с русским обществом всё гораздо труднее. Это ведь было именно советское общество с преобладающим, главным, русским языком. Оно было, разумеется, шире границ тогдашней Российской Федерации, захватывало остальные 14 республик, но это была не Россия. Даже для самых несведущих иностранцев я не мог и раньше сказать, что родился и вырос в «России». Меня даже спрашивали (когда-то еще почти без политической подначки и подколки), мол, если в Херсоне все говорили на русском, Потёмкин там, Суворов — значит Россия же? Да нет, конечно, нет.
Можно понять желание и власти, и многих людей в постсоветские годы перескочить эти 70 советских лет — дескать, ну были они и кончились. А Россия наших прабабушек-прадедушек, Российская империя, будто была и продолжается сейчас, пусть в другом, дескать, урезанном территориально и культурно ухудшенном качестве…
И в пятидесятые, и в семидесятые, и при Хрущёве, и при Брежневе, и при Горбачёве — это была Россия? Нет. Это было другого рода государство и другая страна. Просто со столицей в Москве, с Пушкиным на полке, но и с портретом Ленина рядом. И Ленин всегда, ну хорошо — года до 1989-го — был «по умолчанию» важнее.
Конечно, хватало с этим несогласных и в образованных слоях разных республик, и среди «простых людей», но инерция «страны победившего Октября» все же была. То есть в этом смысле Советский Союз действительно был таким специфическим цивилизационным образованием. И, мне кажется, то, что происходит сейчас, если пытаться рассуждать отстранён но, — это процесс переформатирования и конца советской и постсоветской цивилизации.
Важно понять, где эта воображаемая (илья-глазуновская или дэ-эс-лихачёвская) Россия, она же РСФСР, пребывала в позднесоветские годы, в семидесятые и восьмидесятые, формирующие для поколения людей, которые ещё продолжают что-то решать, и здесь, как мне кажется, важное и даже опасное слепое пятно. Я занимаюсь этими временами, интеллектуальными процессами, которые тогда происходили, в РСФСР, но и в УССР, БССР, и других республиках, чтобы понять истоки происходящего.
T-i: Но можем ли мы сказать, что все же между дореволюционной Россией, СССР и постсоветской Российской Федерацией существует историческая преемственность? Или это иной тип связи и наследования? И как тогда быть с распространенным представлением о постсоветском периоде как о возвращении к «нормальному» течению истории?
АД: Я искренне не считаю Российскую Федерацию прямой и безусловной наследницей «исторической России» или даже её перевоплощением. Тут хороший пример — современная Турция, за плечами которой стоит Османская империя, но которая — уже другое государство, о чем бы ни грезили ее нынешние вожди и проповедники. Россия 1913-го года — это не Россия XX съезда (1956) и не Россия 1993-го года. Это не одна страна в трёх измерениях ХХ века (сколько бы ни находили схожего: безгласный народ и несогласная интеллигенция, глобальный размах, роль первого лица), это три разных страны. Но тут важно сказать: несмотря на это «научное» разделение трех Россий (имперской, советской и ельцинско-путинской), в сознании и самих граждан нынешней РФ, и большинства наблюдателей, и противников образ «вечной России» вполне устойчив и по сути закреплен, стал реальностью. Перед нами, на мой взгляд, своего рода разновидность превращенной формы, согласно Мерабу Мамардашвили — действенной и актуальной, хотя и «неправильной». Идея, что Россия с 1989-го года возрождается, в точности как Польша или Эстония, из коммунистического пленения, в представлениях Дмитрия Сергеевича Лихачёва или даже Мариэтты Омаровны Чудаковой, все-таки, на мой крайне скептический взгляд, — все это пока обернулось огнями святого Эльма. За этой близнецовостью, за тем, что страна-дочь — копия «исторической матери» или копия бабушки, нужно видеть, что речь идет о разных исторических лицах, а не об одной «России сквозь века». Понятно, что и в Украине, и в Беларуси, и в других республиках эта вот связь времен, от седой древности во вчерашний и завтрашний день — тоже аксиома.
Но в тех случаях речь шла и идет о строительстве нации и государства, а в русском — про империю или «страну-цивилизацию» на фёдор-лукьяновском новоязе (с фрагментами то из поздних славянофилов, то из картинок Ильи Глазунова). Но истоки этой действенной и потенциально опасной превращенной формы («России» как и РСФСР и СССР разом), на мой взгляд, брежневское «спокойное» двадцатилетие.
T-i: Получается, что ты во многом занимаешься как историк тем периодом, который ты сам прожил биографически. Твоя научная биография в какой-то степени тоже продукт тех процессов, которые начали происходить на переломе советской и постсоветской эпох. Ты уехал учиться ещё в Советском Союзе, и это были девяностые, и хотелось бы, чтобы мы немного поговорили о том времени.
АД: Тогда, в 1989-м, я поступил в Питер на исторический факультет, отчасти по семейным соображениям, отчасти потому, что мне тогда интереснее было учиться даже в Питере, а не в «самой» Москве. Говоря в терминах империи, провинции и столицы, мне всегда было интересно быть вне центра: поступить в Питер, а не в Москву и в качестве героя исследований взять вдохновителя нового марксизма в XX веке, Георга (или Дьёрдя) Лукача. Сын венгерского банкира-миллионера, уже в довольно зрелом возрасте, после 35, написав пару достаточно известных умно-парадоксальных книг, он превратился из Савла в Павла: стал большевистским комиссаром, венгерским Луначарским, когда там был перелом 1918-1919 годов, советская республика и потом, до самой смерти в своей постели в 86 лет в 1971 году оставался коммунистом, левым. Его книжка 1923 года, «История и классовое сознание» (в этом году отмечают ее столетие) была посвящена всемирно-исторической роли пролетариата, понятой через Гегеля.
И когда в 1989 году, и в 1991, и, тем более, в 1993 году, в ответ на вопрос: «Чем ты занимаешься?», человек слышал: «Вот, книгой «История и классовое сознание», которая посвящена исторической миссии пролетариата», первой реакцией собеседника было — покрутить пальцем у виска.
Заниматься, к примеру, отцами церкви было тогда, хотя и в той же степени, скажем мягко, специфично для человека «с улицы», но и куда более легитимно. А заниматься Лукачем в 1991 или 1994 году — это как ходить в церковь, из которой все ушли. Хотя почему же все… В углу оставались вполне крепкие еще зюгановцы, которым и Лукач-то совсем не нужен. А ведь он — прототип Лео Нафты из «Волшебной горы» Томаса Манна… Манна, Канетти, Музиля я тогда и потом очень любил. Линия немецкой, центральноевропейской культуры была для меня очень важна, и это тоже было не слишком созвучно всеобщим настроениям того времени, мне же было интересно идти поперёк. «История и классовое сознание» Лукача, с которой начался западный марксизм (исток многих идей Теодора Адорно или Вальтера Беньямина), была важной для меня книгой, и я захотел раскопать, каковы истоки этой книги, что за человек её написал, как возникла у него такая гегелевская картина мировой истории, которая через пролетариат приходит к самопознанию и осуществлению своего завершения. С другой же стороны, другой моей настольной книгой тогда, в девяностые, была серая книжка Лидии Гинзбург «Человек за письменным столом», и мне хотелось узнать лучше круг идей молодой Лидии Гинзбург. Откуда она такая взялась — и сам ее круг? В её рефлексии, в её понимании литературы, в её опыте сказывалось прежде всего влияние формальной школы, и вот наряду с Лукачем у меня возник второй мой интерес, уже в Европейском университете: русский формализм.

Георг Лукач. Википедия
Я написал о Лукаче диплом, потом кандидатскую диссертацию на истфаке СПбГУ. Его возглавлял зюгановец и в общем-то неплохой когда-то историк Киевской Руси Игорь Фроянов, и особо там ловить было нечего. А вот Европейский университет был другой площадкой в тогдашнем Петербурге. Я был в самой первой когорте людей, которые там учились, но поступил я не на историческую программу, а на факультет социальных наук и занялся социологией науки на примере еще раньше полюбленных мною русских формалистов… То есть я стал заниматься философами как историк и филологами как социолог, каждый раз оставаясь как бы извне… Почему в этой четверке дисциплин для меня надолго победила филология? Она задавала самую высокую, трудную степень притязаний — знаменитый «гамбургский счет» Шкловского. Но, наверное, интеллектуальная история осталась самой всеохватной, если уж оглядываться на четверть века в целом. Было и еще что-то очень важное и значимое помимо этих довольно рафинированных вещей. Чувство своей почвы — которая как раз НЕ Россия. Мой Херсон же рядом с Крымом, и вот уже с конца 1990-х очевидна была убогость крымско-ялтинского или даже специфически русско-одесского варианта идентичности («верните НАС обратно НАКОНЕЦ к Ахматовой от Леси Украинки»), вот это «перекисшее» чувство единой страны уже в виде провинциального и тоскливого обочинного гротеска — от этого хотелось быть как можно дальше.
Все девяностые годы я ездил в Украину, у меня оставалась скорее школьная память об украинской литературе, но всё-таки то было время переформатирования, преобразования этого бывшего советско-республиканского пространства.
Майдан 2004 года я наблюдал на расстоянии, скорее из Москвы, но мои старые друзья тогда остались в Киеве, в Одессе и немножко в Херсоне, и мне стала по-новому интересна Украина. Я стал открывать книжки, которые покупал в девяностые-двухтысячные, и для меня Киев уже был не просто транзитным пунктом по пути из Питера к родителям в Херсон.
Перелистывая разные новинки на прилавках, я в итоге вышел — сначала только как удивленный читатель, а потом и лично — на круг очень важного украинского гуманитарного журнала и издательства «Критика», и это был самый настоящий подарок судьбы. Через какое-то время я написал статью в «Новом литературном обозрении», в котором уже тогда работал, про Сергея Жадана, и в казанско-американском «Ab Imperio» — про украинскую науку до 1917 года.
Так сформировались три русла моих профессиональных интересов, моей биографии — Лукач и марксизм, и западный, и немножко советский, включая позднесоветский и околоильенковский, 1970-х годов, затем русский формализм вплоть до Михаила Гаспарова, Лотмана, «Записей и выписок», но в основе — Эйхенбаум, Тынянов, Гинзбург, и фоном для всего этого — Украина, причём в самых разных её измерениях от новейшей литературы до украинской культуры 1920-х годов. В итоге получилась книжка 2021 года про Атлантиду нацмодернизма, написанная совместно с Галиной Бабак, где всё соединилось через 1920-е, через Лукача (пусть почти в невидимой степени), Гинзбург, Тынянова и тонкого, раньше времени погасшего творчески филолога Александра Белецкого, потом разведчика поневоле и фольклориста Виктора Петрова — украинских деятелей, связанных с так называемым «расстрелянным возрождением» 1920-х годов.
Такое тройное поле занятий сложилось к моим почти 50 годам, когда после 24 февраля мне пришлось менять страну, работу и всю привычную жизнь.
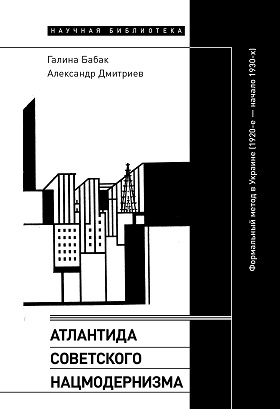
«Атлантида советского нацмодернизма». Новое Литературное Обозрение
T-i: А в Москве ты как оказался?
АД: Ты знаешь, я принёс когда-то часть свой социологической — а не лукачевской — диссертации Марии Майофис, я уже даже не помню по чьей рекомендации, в «Новое литературное обозрение», они тогда собирали пятидесятый номер. В итоге появилась моя первая большая публикация там — «Наука как приём: ещё раз о методологическом наследии русского формализма». Эту статью мы написали вместе с «тартуанцем» Яном Левченко, который сейчас тоже живет в Таллинне. В тот момент в «Новом литературном обозрении» шло содержательное и поколенческое обновление, когда вместо стартовой когорты (включая Сергея Зенкина и Сергея Козлова) пришли Илья Кукулин, Мария Майофис, а потом и я. Ирина Прохорова, Абрам Ильич Рейтблат и мы, «младшие», «вели» журнал примерно с 2003 по 2009 год, это было для меня очень важным, может, и главным опытом интеллектуальной жизни и «взрослой» школой. Кстати, статья про Жадана тоже появилась примерно тогда, при очень благожелательном участии Ильи Кукулина.
T-i: Годы, о которых мы говорим, для нашего поколения, безусловно, главные и важнейшие. Сейчас про них говорят разное. Одни говорят, что девяностые — это годы свободы, и это один исторический миф, другой исторический миф — что это годы, когда всех обобрали, и что вообще ничего хорошего в девяностые не было, а путинизм — это закономерное продолжение девяностых. То есть, условно говоря, согласно одной версии девяностых, у нас были возможности, но мы их упустили, а согласно другой версии — это всё был обман, ошибка, на который мы все, то есть интеллектуалы формации девяностых, повелись, потому что неправильно оценили политическую обстановку. Как ты это видишь? Что мы сделали, кем мы были тогда, в чем мы ошиблись?
АД: Думаю, я сто первый человек, который скажет об этом именно так, но для меня это были годы молодости и свободы. Талоны, очереди, отсутствие денег да еще поездки в сельскую школу, чтобы тебя не взяли в армию — всё это воспринималось нашими ровесниками как-то легче, чем людьми, которым тогда было сорок или шестьдесят. Для них все это действительно было сильнейшим болезненным переломом. Сейчас мне их понять проще, а тогда это виделось «семидесятыми наоборот»: всё, что было душным и тесным или почти невозможным в семидесятые, в девяностые вдруг стало достижимым, реализуемым, например, возможность заниматься наукой без оглядки на «классовый подход», хотя бы поехать в страну изучаемой культуры или языка. Моя первая заграничная поездка — как раз Будапешт, 1999 год, возможность работать в архиве Лукача. То знание, которое было до этого — оно было из книжек, а тут ты едешь в Венгрию, говоришь с людьми, которые Лукача, пусть и в позднем возрасте, застали — совсем другое ощущение… И слово «самореализация» я, наверное, оставил бы ключевым. Наверное, физики или биологи, которые в 1990-е многое потеряли именно в плане прежних исследовательских возможностей, видят их иначе, а для гуманитариев и, что очень важно, подчеркну, социальных учёных, это были замечательные годы, особенно для тех, кто занимается обществом и экономикой с такой, что ли, более строгой дескриптивной точки зрения.
И в этом смысле для интеллектуальных историков девяностые годы были действительно временем свершений, вплоть до конца 2000-х годов. Я как историк использовал и гуманитарные, и социологические методы и формы объяснения и анализа, но всегда понимал, что союз «и» в фразе «социальные и гуманитарные науки» содержит много «но». С 2003 года, когда я переехал в Москву, до 2009, когда я перешёл работать в ИГИТИ, вот эти шесть, даже семь полных лет, были для меня счастливыми. И это все тоже импульс девяностых годов, времени, когда иноходчество оказалось востребованным и важным, когда можно стало перейти из привычных своих навыков и дисциплин во что-то новое, сохраняя при этом и иронию, и серьёзность — те качества, которые для девяностых очень характерны.
T-i: Не кажется ли тебе, что во всем этом была изначально зашита некоторая проблема? Если вспомнить, с чего начиналось «Новое литературное обозрение», не журнал, а весь проект… В журнале «Неприкосновенный запас» была рубрика «От какого наследства мы отказываемся» — про то, что интеллектуалы нового типа отказываются от идеологического наследства восьмидесятников и семидесятников в пользу новых путей, новых дискурсов. Включая и присущее прежней формации интеллигентское стремление просвещать… Насколько, отказавшись от наследства семидесятников-восьмидесятников, от наследства советской интеллигенции, мы смогли что-то изменить системно, если посмотреть глазами следующих поколений?
АД: Я закончил сейчас статью про дисциплинарную панораму гуманитарных и социальных наук девяностых годов в соавторстве с Андреем Ильиным, моим коллегой по ИГИТИ, который девяностые совсем не застал и писал о них по документам и чужим свидетельствам, не обладая своим опытом, а я, конечно, так или иначе отсылал к собственным воспоминаниям и в итоге получился такой поколенческий альянс. Я начал наш разговор с чувства поражения, с важного для меня образа старухи у разбитого корыта из пушкинской сказки.
На наших глазах обрушились уже в XXI веке два важных проекта реформирования университета: афанасьевский РГГУ после истории с ЮКОСом и Невзлиным (хотя многое можно было реализовывать там и после), и Высшая школа экономики Кузьминова и его соратников (а это как раз и моя история после 2009 года, ныне закрытый ИГИТИ).
Как раз об уникальном опыте ИГИТИ у вас недавно рассказывала Ирина Савельева. Но вопросы о цене этой свободы и о «слепых пятнах», очагах будущей болезни, остаются все равно.
Да, в устройстве нашего поля, среды, нашей науки были пусть не фатальные деформации, но важные перекосы, которых мы тогда не замечали. Когда мы писали с Андреем Ильиным эту статью, один из главных вопросов был о том, что оказалось в тени, чего мы не замечаем, когда говорим о девяностых, и чего мы не видели еще тогда.
T-i: А чего мы не замечали?
АД: Например, Украину. Ее особость, иной путь и восприятие даже Второй мировой войны, степень значимости влиятельной диаспорной среды и связь с иным XVII веком, который там совсем даже не «допетровский», потому что Пётр для этой страны и земли — совсем иной, мрачный и зловещий персонаж, не из милюковской статьи или брежневского учебника. И революционный разлом 1917-го, и 1920-е там оказались совсем иными… Тамошние неоклассики во главе с Зеровым, притом искренне связанные с красным прозаиком и идеологом Хвылевым, — они сильно меняют, например, восприятие акмеистов или Ахматовой. Учат сравнивать, видеть скрытое, замолчанное или незамечаемое. Совсем иная, отличающаяся и разнообразная среда, история, чем видят ученик и учитель самой хорошей московской, волжской или новосибирской школы. Со своим чувством Европы, что еще важнее.
Потому что такой взгляд — из Украины, но и не только — делает пресловутых «нас» с как будто цельным, из бронзы вылитым наследием от митрополита Иллариона и Ломоносова до Юрия Лотмана и Андрея Тарковского какими-то вдруг неполными, даже и дутыми, зацикленными на своей в общем-то сомнительной самодостаточности.
Ныне отбывающий срок в Минске Александр Иосифович Федута, с его первопроходческими работами о попытках приспособления угнетенных поляков и «западноруссов» к империи, о читательской среде «золотого века» совсем не только пушкинского, тоже указывал на перспективу совсем иную. Белорус Владимир Короткевич, украинцы Леонид Плющ и Василь Стус или эстонец Уку Мазинг, важность вооруженного сопротивления Москве и спрятанной памяти о нем, десятилетий работы эмигрантов или подпольщиков, вначале даже и красных — это сильно выламывалось за разрешенную оградку «Дружбы народов» 1987 или 2017 (при всем почтении), было вне добродушных пасьянсов из чегемских историй или битовских путешествий в Армению. Можно не сочувствовать и не умиляться, но важно учитывать не только гармонию, но несводимость оптик, конфликт памятей.
T-i: Как мы можем говорить об этом? И можем ли мы работать с этим незамечаемым?
АД: И для меня принципиально важно: чем больше будут об этом говорить и думать на разных языках, включая украинский или татарский, тем больше станет понятно про прошлую империю и про Россию нынешнюю. Да, сейчас больше видны разломы на месте замазанных цементом, кровью и позолотой стыков и швов. Важно вот что: «мы» прежнее, последней четверти ХХ века, сейчас тоже сильно и заметно переменилось. Пути у многих разошлись. Даже своя русская Тула, или Астрахань, или Архангельск вполне могут считаться незамечаемыми. Многие верно писали и пишут, что процессы в двух столицах в России послесоветской сильно опередили то, что делалось, например, в других местах, в регионах. Ну, вот когда-то «в столицах» куда важнее было перевести ещё один опус Деррида, а потом Латура, чем открыть условный «Сундучок Милашевича» — книги, за которую писателю Марку Харитонову дали первый Букер в 1992 году. Решение букеровского жюри воспринималось тогда как некий странный казус и сбой. На фоне актуальных, острых и модных поветрий вот этот разговор про провинциальное, подчеркну, прошлое, про эти сундучки и их содержимое, жёлтые листочки, исписанные неровным почерком, смотрелся странно… Я за этим следил со стороны, для меня тогда главной была не литературная и даже не филологическая среда, я был студентом, который, наверное, по инерции читал еще толстые журналы по дороге на занятия или на каникулах.
Проза Харитонова, роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» стали для меня осознанием связи с региональным прошлым, с провинцией и провинциальностью.
Как и доперестроечный Маканин, кстати. Диспропорция столичных мод и более глубинного развития, говоря о пространстве Российской Федерации и, опять-таки, о странах — бывших советских республиках, включая и страны Балтии, и Восточную Европу, были для меня темой не просто важной, но и, наверное, личной. То, что замечательный, так рано ушедший Борис Дубин продолжал заниматься окраинами: Латинской Америкой, Польшей и польскими сюжетами, Чеславом Милошем, с его привязанностью к провинции и его поликультурным Вильно, было очень для меня важно. Благодаря Дубину я открыл для себя в конце 1990-х «Порабощенный разум» Милоша как ключ к пониманию Лукача и приключений марксистской диалектики. И Милош, и Дубин очень много дали мне для понимания XX века, важности иррационального в небанальном смысле, если угодно — и с левой стороны. Если и были какие-то трещины и диспропорции в этом самом пресловутом корыте русской культуры именно как моей, то это, наверное, игнорирование, не-замечание у столь многих вот этой толщи и объемности культуры, её социальной обусловленности.
T-i: Спасибо, что напомнил про Бориса Дубина. Разговор о множественности культур и языков на месте прежнего кажущегося монолита, получается, выводит и на социологическую неравномерность, многослойность любой культуры?
АД: Конечно. Ты как профессиональный социолог литературы сама, кажется, именно этим многим занимаешься? Вот для украинской культуры важнейшая тема и проблема, связанная с ее существованием и самостоятельностью, — тема украинского читателя. Ее рассматривал (довольно детально, с разных сторон) не только уже помянутый мною харьковчанин Александр Белецкий еще в 1920-е годы, но и киевские неоклассики и потом их последователи в 1970-е годы, а до революции — Иван Стешенко. Много ли «мы» знаем про это?
А вот уже наша, да и не только мода на Бурдьё, возвращение интереса к социологии уже в XXI веке (в какой валюте будем измерять «культурный капитал»?) были в каком-то смысле внутренней компенсацией перепадов революционных 1990-х, не сразу сознаваемой расплатой за затянувшееся и, как оказалось, преходящее «удовольствие от текста», игры означающих.
Лицо русской литературной культуры девяностых или литературной идеологии — это, скорее, Вячеслав Курицын, с его легко подвешенным языком, пародия на Шкловского двадцатых в каком-то смысле, ибо его в какой-то момент числили чуть ли не крупным теоретиком, зеркалом постмодерна. Но это довольно быстро и показательно сдулось, потому что трансформировалась среда. Не просто маятник вкусов перешел, мол, к «новой серьезности». Разговор о социологии опять переходит из литературы к политике.
Эта нехватка, закономерное, но деформирующее забвение «социологии» напрямую связаны в девяностые годы, на мой взгляд, и с отсутствием сильного левого «прогрессивного» профсоюзного или рабочего движения — как раньше в «первом мире». Там тоже конец века дал кризис идей 1968 года. Но, если сравнивать с Восточной Европой, вместо альтернативы в лице Александра Квасьневского, который был в Польше и представлял левые силы, пусть с эхом старого устройства во второй половине 1990-х, в Российской Федерации был Зюганов. Или Лукашенко с его неосоветизмом, коммунисты в Украине. Она ведь многим в первое послекоммунистическое десятилетие виделась страной, «отстающей» от темпа российских реформ! В девяностые годы в послесоветской России не было той социальной поэзии, как мне кажется, которая заявит о себе уже в XXI веке, не было интеллектуальной левой сцены. Был связанный с «Мемориалом» антифашизм, к которому я был причастен, даже участвовал в каких-то акциях в Питере в середине девяностых, но это ещё не был тот, так сказать, левый субкультурный антифашизм в нейтральном, позитивном смысле, который появился в 2000-е годы, а тогда в провинции у следующей волны за неформалами была, кстати, скорее «Лимонка», чем забытые «Птюч» или какой-то «Молоток».
T-i: То, что ты говоришь, мне кажется очень важным. В 1990-е место левых заняли либералы, потому что невыносимо было хранить левое наследие как советское, в его советском виде. Мне кажется, тогда наблюдалась какая-то идиосинкразия к языку левой теории, к формам ее выражения, к тому государству, которое в итоге получилось, все это стремились отбросить как можно дальше. И вот появляется Лимонов, мягко говоря, неоднозначная фигура, с наследием которого, мне кажется, ещё предстоит толком разбираться. Думал ли ты о роли альтернативных либеральному мейнстриму 1990-х сцен?
АД: Я думаю, что, если, например, прочитать критические сочинения покойного Александра Агеева (1956-2008), или его дневники, он какие-то вещи довольно зорко замечал, и вот эти диспропорции, о которых мы успели сказать, видел. Игорь Виноградов в своём журнале «Континент» из своего христианско-демократического сегмента пытался что-то разглядеть. Именно из христианско-демократического, а не христианско-либерального, это важно…
T-i: А в чём для тебя разница?
АД: Для христианско-либеральных авторов тогдашнего и нынешнего «Нового мира» вроде Ренаты Гальцевой или Ирины Роднянской тогда были важны «принсИпы» (как у старшего героя «Отцов и детей»), при том в эти солженицынские «принсИпы» могли входить и возрождение России, государственная сила, а для Виноградова это было: «А давайте посмотрим, как люди-то живут, что сейчас творится?».
И, обратим внимание, кажется, что никакой собственно эстетическо-культурной альтернативы снизу и слева в 1990-е «Лимонке» не было. Дугин, Курёхин — это были, скорее, интересные маргиналы, которым было тесно в рамках и нового, и прежнего мейнстрима, что «Знамени», что даже журнала «Птюч», — они пытались бросить мейнстриму и «глянцу» свой вызов, опираясь и на западные правые, контркультурные вещи.
Тут очень важно сказать о Жадане. Сергей Жадан первой половины 2000-х, включая его роман «Депеш Мод», — это попытка посмотреть на такую лимонковскую молодёжь, но из Харькова.
Мои самые хорошие аспиранты 2010-х в молодости тусовались как раз с лимоновцами, потому что, допустим, в Тюмени конца девяностых «Лимонка» в культурном плане для них не имела конкурентов. Эту же ровно среду, такую неприкаянную молодёжь изображал Жадан в своей прозе, которая тогда, как мне кажется, сильно отличалась от его поэзии. И тут позволю себе очень сильно огрубить — в поэзии он был таким молодым украинским Бродским, сильно интереснее и куда своеобразнее, на мой вкус, чем Борис Рыжий (который совершенно «не моё»), а в прозе он как раз описывал именно совсем иную среду — культуру панелек и потрескавшегося асфальта. Для российской среды Егор Летов мог бы считаться культурным воплощением мира полуразбитых троллейбусов на городской окраине какого-нибудь областного центра.

Сергей Жадан. DW
T-i: То есть в 1990-е у нас имелся мейнстрим (либеральный), который перестал бороться с властью, потому что «всё разрешили» и нас это устраивает. И имелся, условно, мир разбитого асфальта, панелек, «регионы» и «провинция», у которых не было голоса в новом интеллектуальном пространстве, пространстве новой науки и новой культуры, так? Нет ли здесь возможности того, что эти люди, не находя себя в том, что происходило на культурной, гуманитарной сцене, обратятся к противоположному полюсу: к каким-нибудь примордиальным терриям, к языкам правых идеологий? Не получается ли такая картинка?
АД: Мне кажется, что в плане истории идеологии, истории культуры и литературы очень соблазнительно глядеть на 20-30 лет назад, чтобы сейчас, задним числом, посмотреть и подумать: ага, провинциалам не дали тогда места и это было «той ошибкой», которая «аукнулась нам сейчас». Очень соблазнительный ход мышления (а еще привет пермяку Юзефовичу да нижегородцу Прилепину), но я как историк думаю о том скорее, почему реализовалась именно такая альтернатива, почему случилось именно то, что случилось. И я могу сказать: невозможно сейчас отыскать в конкретно выбранном нами 1996-м, а, может быть, даже и в 2002-м году какой-то решающий и фатальный перекос, который можно было или вот уж наверняка стоило бы исправить…
У Российской Федерации было два сценария развития после 1991 года. Первый, к сожалению, веймарский (об этом, как известно, Александр Янов писал), второй — бонапартистский, включающий классические революционные фазы.
Если нашим якобинским террором был 1993-й, то после этого закономерно начинается термидор. Был даже целый сборник, который так и назывался: «Термидор», кажется, 2002 года, я его рецензировал. И та волна, мутная и чёрная, которая нас накрыла двадцать лет спустя, и которая на самом деле зрела и раньше, конечно, связана с мутировавшим термидором и особенно диктаторско-путинским брюмером начала 2000-х, выходом на новую империю. Вопрос в том, какие очертания, культурные и интеллектуальные, стала обретать эта волна реакции на революционные вызовы и сдвиги как 1989–1991 годов, так 1968 года.
Понимаешь, как раз примерно с середины 2000-х в рамках этого общего тренда постсоветская среда и социально и культурно начала формироваться более объёмно (чем, например, в плоскости Бродский vs Летов) и меняться по-разному — в России, в Украине и по-своему в каждой из бывших союзных республик и в новых государствах на останках СССР. Дмитрий Кузьмин в «Вавилоне» и издательских начинаниях нового века пытался тоже к этому «замолчанному» пласту прислушиваться, ориентируясь на поэтическую инновацию в первую очередь. Глеб Морев, с его утонченностью и чутьем, печатая в «Критической массе» или «Кольте» Модеста Колерова, отклики на криминальные тексты Владимира Нестеренко («Адольфыча») о киевских бандитах, тоже реализовывал свой интерес к «социально иному», голосу снизу, к лагерю «органическому» — как и к сподвижникам генерала Власова. Назову тут близкого автора для меня, который как раз много писал про спаянность советского опыта с прежним российским и про Андрея Платонова и важность региональной разнородности России — Владимира Шарова, автора «Репетиций» и «Царства Агамемнона».
T-i: Многое из того, что ты говорил выше может быть рассмотрено в контексте распространенного сейчас разговора об «имперском» в русской истории. Но насколько вообще научно корректно употреблять слово «имперский»?
АД: Оно неизбежно и важно, пускай и может показаться затёртым. Ну, в конце концов, уже почти четверть века выходит очень важный журнал Ab Imperio и часть его редакторов (Марина Могильнер, Илья Герасимов) как раз и работали в начале 2000-х в Казани — и уехали оттуда не только по своей воле и тоже уже давно. И при том, что я сам говорил про Украину, Белоруссию, Татарстан, Среднюю Азию, про многоцветье прежнего поликультурного пространства, всю эту «дружбу народов», для меня самого важнее сейчас разговор не об имперстве, а о республиканизме. О республике, о том, что такое народ, что такое представительная демократия, насколько можно говорить о «мы», — об этом говорят даже применительно к будущему разных стран восточнее Польши и Румынии гораздо меньше.
Идея республики оказалась утрачена в нынешней российской, в общем-то, квазимонархической, полувождистской системе. Кажется, что тема империи важнее и думать надо, в первую очередь, именно о ней. Но это не так.
T-i: Считаешь ли ты, что интеллектуал, говорящий на русском языке и, условно говоря, имеющий отношение к России, сейчас должен молчать, поскольку его голос — это голос империи, даже если он не согласен с проводимой там политикой?
АД: О пользе молчания… А может, самооглядки? На презентации весной 2023-го сборника «Перед лицом катастрофы», где напечатана и моя статья про призрак «вечной России», я, если честно, вдруг почувствовал себя очень неуютно и говорил даже резче и злей, чем думал. Меня при близком знакомстве поразила атмосфера сосредоточия русских эмигрантов за границей, часть такого вроде бы «нормального» диаспорного, локтевого самоощущения, «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», а вот я раньше вас не видел, а только читал и слышал, так тут мы и рядом, и портрет Тургенева сверху смотрит — благословляет, видать, ну, и Путина мы все, конечно, не любим… Если честно, мне стало как-то не по себе — хотя люди были и вправду хорошие, толковые и деликатные. Я уж не знаю, почему. И мероприятие нужное, а организаторы и вправду очень старались. Наверное, бахвальством будет сказать: вот-де, взыграли во мне задетые украинские или херсонские чувства.
Просто важно все же видеть себя чужими глазами, понимать, как МЫ смотримся со стороны, со своими вывезенными в головах чаще всего сугубо московскими и прочими темами, вкусами и ориентирами. Это та вещь, которую в себе не замечали, а теперь придётся увидеть.
Как делать по-другому, есть ли рецепт готовый, кроме нового слова «деколонизация» — привлекательного для одних и раздражающего для многих прочих? Увидим. И, разумеется, не получится «изживать» эти привычки ума и чувства по командам из соцсетей или как будто по рецептам «перековки» в духе 1920-х годов…
Смысла всей этой как будто опривычненной (заговариваемой?) катастрофы мы ещё не знаем, поскольку нет развязки, какой бы она ни была. Через пять лет даже наш сегодняшний разговор будет восприниматься иначе и эти пять лет будут поучительнее, чем то, что мы скажем сейчас.
Это же не Блок с Куликовым полем в 1916 году… Просто, повторюсь, есть люди, которым много хуже нас и которые не очень-то стремятся порой именно с нами делиться мыслями и чувствами. Это все при очень свежей памяти о ракетах и налетах (которые не утихают ведь), об уничтоженных целых кварталах и городах, что на слуху из военных сводок, для меня — на фоне новостей из моего города, или разбитой недавно главной херсонской библиотеки… А главное — погибшие украинцы и украинки, гражданские или военные, знакомые порой через одно рукопожатие: друзья друзей, их родные и знакомые, дети одноклассников. Да, тут вроде с «нашей» русско-эмигрантской стороны — среда, которая потеряла свою страну. Среда в сливочной части своей довольно клановая (или, мягче выражаясь — преимущественно компанейская), — давай уж честно? — да еще оглушенная и настроженная разом. Ведь вот-вот же придут новые «Шариковы» и все наше/«свое» отнимут, отменят, переиначат! Но это «свое» закончилось, и уж само 24 февраля случилось, и вовсе не на пустом месте. Куда деться от груза недавнего прошлого — все это совершалось почти на наших глазах, и мы остановить это не смогли, даже если пытались.
T-i: А как в этом контексте выглядит позиция ученого? Где ее этические границы, в таком случае? Можно ли гуманитарию сохранить научную нейтральность, нужно ли?
АД: Понятно, что есть разные регистры и дистанции. В гуманитарной и литературной, культурной области дискуссии жестче. Науки естественные, включая математику, наиболее нейтральны, меньше зациклены на круге вопросов, вроде «а кто ты?», «а откуда ты?», «раз занимаешься этой культурой, этой идентичностью, значит, ты должен как-то отреагировать». И, наконец, есть публичная среда, отчасти политическая, отчасти идеологическая. И мне, например, научный модус биографически ближе, важнее и понятнее. В нем тоже много значимого для людей можно сделать, в чем-то может быть даже не меньше, чем в двух остальных. Понятно, что каждый учёный — одновременно с этим и гражданин, и носитель какой-то культуры или культур, но все же научная составляющая, мне кажется, может быть и автономной, и существенной. И это не просто такая страусиная позиция: «ах, вы не хотите говорить?!», «ага, так вы надеетесь отсидеться и отмолчаться?!». Нет, это нечто, важное само по себе. Поэты не могут выступать вместе (хотя тут немало оговорок и разных случаев) на одних площадках, но ведущий украинский историк из Гарварда Сергей Плохий на русском языке рассказывает на «Радио Свобода» о своей новой книге про российскую полномасштабную агрессию с февраля 2024 года. Я это не к тому, что хорошо пребывать в спокойном и взвешенном модусе «чисто научного разговора»… Совсем нет.
Как историк науки ХХ века я вижу, как похоже происходящее в этой сфере и на Вторую мировую (с вовлечением «людей знания» в военную сферу), но еще в большей степени — на странную смесь Холодной войны и взаимного отторжения времен «Великой войны» 1914–1918 годов. Но знание о прошлом едва ли способно дать правильные, да еще и безошибочные ориентиры, как мне представляется. Помогут ли даже историку оглядки на 1915 или 1986, например, годы (когда он слишком хорошо помнит, что случилось потом) — бог весть…
T-i: И последний вопрос. Есть ли у русской гуманитаристики перспективы?
АД: Скажу намеренно резко и от себя: никакой русской гуманитарной науки в прежнем виде больше нет. Не стоит делать благостное лицо («наука, солидарность профессионалов превыше всего») посреди обрушенного мира, хотя есть, что сохранять и продолжать в частных случаях и историях. Но вот в слаженную и тем более единую картину «развития науки даже в самые тяжелые годы и т.д.» эти истории уже не уложишь. При том, что коллеги, живущие в России, на конец 2023 года могут высказываться — уже с оглядкой и в зависимости от темы, контекста — на академические сюжеты, выступать на зарубежных площадках, и печататься в разных русских изданиях, все же мне кажется, что те, кто уехал — постепенно становятся в первую очередь частью науки разных стран — соответственно, европейской, американской, израильской… Язык, кажется, менее важен тут. Как будто уже какой-то Рубикон перейдён. Что нужно сказать: это, надеюсь, не гордыня и не эффектно захлопнутая в прошлое дверь… Да и про кончившееся или длящееся прошлое в ситуации совсем нестабильной стоит ли говорить? Если о себе, то с какого-то момента, который мне сложно за эти полтора года отметить, ясно, я как будто перестал чувствовать себя принадлежащим к той науке, к которой «по умолчанию» относился до отъезда. И это не просто следствие перемещения за границу (которая как бы и не заграница уже) или реакция на войну, неизбежную цензуру и давление на коллег. Тут по-иному складывается чувство причастности, чем в среде творческой или политической, и это не коллективные алгоритмы. Возможно, и сценарии общие — только в самом первом приближении.
Наше единство и не в настоящем, и не в будущем, а, скорее, в прошлом, и это не самая обнадеживающая привязка. Русская интеллектуальная эмиграция, если брать опыт 1920-х–1940-х, проиграла (я нарочно так резок) не потому, что надолго победили большевики, а, в том числе, именно потому, что те и тогда слишком много рассуждали про Россию, религиозные задачи и горизонты, собственную идентичность, благородные корни и истоки. Несостоявшийся или неудачный диалог с эмиграциями украинской, белорусской и так далее, просто вредные книги вроде «Происхождения украинского сепаратизма» (1966) Николая Ульянова, сложный опыт Дмитрия Чижевского между украинским и русско-зарубежным мирами… Выиграли именно в науке те, кто, как Георгий Гурвич, Питирим Сорокин или Александр Кожев, просто ушел от русских тем и от русских сюжетов. Конечно, история не повторяется. Но если есть какая-то наша именно научная — подчеркну, не гражданская и не культурная — общая (сверх)задача, то все-таки это не сохранение образа или идеала правильной России во имя ее будущего…
Я вовсе не хочу рождать у читателя чувство тупика проекта «русской науки» в изгнании или поверх барьеров. Скорее, напротив, важно понять, чем и почему для мировой мысли опыт «одной седьмой части суши» на самом деле полнее и весомей расхожих ракурсов представления этого опыта — наследия «Толстоевского», Эйзенштейна или «ужасов тоталитаризма» (все это можно считать разновидностями экзотики). То направление, которое мне кажется особенно перспективным, связано с уходом от экзотизации, со сближением гуманитарных и социальных наук, а они пока говорят на довольно разных языках, хотя имеют и общих мэтров, вроде Макса Вебера, например. Если говорить о носителях «русских» фамилий — сколько людей за пределами соответствующих академических ячеек знают про социологию правоведения у Кирилла Титаева или про анализ трансформаций бывшего социалистического «второго мира» и России как «субалтерной империи» (Вячеслав Морозов), про российский и американский прогрессизм начала ХХ века у Ильи Герасимова, про анализ постиндустриальных условий труда в духе левых итальянских операистов у Дмитрия Жихаревича? Я могу назвать среди наиболее перспективных, на мой взгляд, подход бывшего «вышкинского» экономиста Андрея Яковлева к вариациям «нелиберальных капитализмов», поиск единой модели для компаративного сравнения «русского пути». И Украина, и разные страны Восточной Европы также будут оцениваться в рамках такого сближения по общей сравнительной шкале. Эти все имена — не просто фонтан случайной эрудиции по принципу «а кого еще стоит вспомнить»… Думаю, сегодня гуманитарий в плане своего инструментария и горизонта не может не быть и социальным исследователем тоже, выносить за скобки этот пласт своей работы и жизни. Не Набоковым единым…
Будущее для ученых из России — это Европа, может быть, Америка Севера и Юга, может быть, Израиль, многоликий восточный мир, Африка или Австралия, но уже не Россия.
По крайней мере, на ближайшие год, пять лет, а может быть, и на всю оставшуюся жизнь, и предстоит просто принять это без манифестов и без деклараций на уровне, скорее, житейских и одновременно интеллектуальных практик. Да, связи с оставшимися коллегами безусловно важны и существенны, как и сама солидарность уехавших, но все это встраивается в иные форматы, чем «сохранение русской науки». Скорее, тут первостепенно важен коллективный образец германских или австрийских ученых — очень несхожих — после 1933 или 1938 годов в большом и разном мире: от Турции филолога Эриха Ауэрбаха до Америки искусствоведа Эрвина Панофского. Пока куда меньше известны россиянам, белорусам (и украинцам тоже) деятельность уехавших от Франко испанских академических интеллектуалов или греческие контексты биографий философов Костаса Акселоса или Корнелиуса Касториадиса, связанных именно с Францией. При том, что Литва Льва Карсавина или Болгария Петра Бицилли, Польша Сергея Гессена (список знаковых героев первой волны эмиграции можно длить) разумеется останутся для новых заграничных гуманитариев поучительными примерами.
Я бы стал говорить про русскоязычную часть очень широкой и осколочной палитры «уехавших», людей изгнания вообще, в глобальном плане. Есть казусы коллективного преследования университетских интеллектуалов в Турции Эрдогана или в Китае, их эмиграции, творческой и экспертной работы в большом мире. Говоря образно, если уж искать примеров для «мы» — то могут прийти в голову также иранские коллеги начиная, например, с 1985 года, которые, да, когда-то учились в Тегеране или Тебризе, для которых фарси — главный язык… Европейские коллеги воспринимают их и сейчас как иранцев, специалистов по Ирану, иранских интеллектуалов, но то, что они делали и продолжают делать, уже очень опосредованно соотносится с тем, что происходит в Исламской республике последние уже 40 с лишним лет. И, скорее всего, это едва ли изменится в ближайшие годы для Ирана, но каким будет случай России — узнаем.
Я думаю, нам — без кавычек — нужно исходить из того, что будущее оказавшихся вне пределов РФ — оно по факту построссийское. И о сложном будущем важнее думать, чем о славном или горьком прошлом.
Текст: Евгения Вежлян
Читайте на нашем сайте цикл интервью «Есть смысл»: Евгения Вежлян беседует с представителями гуманитарных и общественных наук.
Сергей Зенкин: «Политический язык никогда не бывает чист»
Николай Плотников: «У философии в России никогда не было институционального хребта»
Михаил Соколов: «Призма, сквозь которую сейчас смотрят на Россию, — это война»
Ирина Савельева: «Надо было видеть мир за пределами своей хижины»
Олег Лекманов: «Спасает безнадежность нашего положения…»
Виктор Вахштайн: «В России мера влиятельности ученого — это мера его виновности»