
Российская власть руками Рособрнадзора уничтожает Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). Неизвестно, откроет ли этот уникальный вуз свои двери в сентябре, а даже если откроет — что сможет предложить своим студентам. Но дело не только в лицензиях или аккредитации каких-то программ — уходит знаменитый «шанинский» дух и содержание. T-invariant поговорил об этом с кандидатом филологических наук, магистром этнологии Мариной Калашниковой, которая много лет работала в Смольном колледже и была деканом факультета свободных искусств и наук Шанинки. А сегодня Калашникова вместе с коллегами (многие из них — бывшие сотрудники Шанинки) развивает частный университет Faculty of Liberal Arts & Sciences в Черногории. Было ли сложно объяснить черногорцам, что это за программа, как вузу нашлось место в стране-курорте и почему около 40 студентов выбрали именно его, а не любой другой европейский университет, где также учат на английском языке?
Назад дороги нет
T-invariant: Вы долго работали в Смольном колледже, а также в Шанинке, вкладывали в них душу и силы. Какие чувства вы сейчас испытываете, когда читаете последние новости про Шанинку?
Марина Калашникова: Тяжёлые чувства. Я, конечно, понимала, что к этому всё идёт. Но по мне лучше бы закрыли всё, чем так калечить. Остаётся имя, но нет того содержания. И есть, к сожалению, люди, которые не различают, не знают об изменениях, могут на это попасться. И это безусловная беда для тех, кто продолжает учиться, потому что они получают не то, ради чего шли туда. Но, с другой стороны, есть героические коллеги в Шанинке, Смольном колледже и других осмысленных местах, которые пытаются всё-таки это человеческое и академическое удержать.
Это трагедия российского образования. Такие вузы строятся годами и плохо восстанавливаются. А разрушить очень просто. Учебный план переделывают под предлогом того, что его надо привести в соответствии с нормой. Это разрушает всю программу. Мы знаем людей, которые это делали, мы ничего не забудем, но это беда.
Мне понятно, что есть коллеги, которые вынуждены оставаться там работать. Мне жалко студентов, особенно то поколение, которое не знало настоящего Смольного колледжа, и только слышало о нём.
Во время подготовки этого интервью появилась новость о том, что Шанинка может лишиться аккредитации. В распоряжении издания «Гроза» оказалась запись собрания 17 июля с участием ректора университета Марии Сиговой. За несколько месяцев вузу выписали два предписания. «Факт выдачи второго предписания означает, что у нас могут приостановить аккредитацию», — говорит на записи ректор Сигова. Студентам предложили в течение 30 дней перевестись в другие вузы. Руководство вуза пообещало помогать в переводах «всем, чем смогут». Тем студентам, кто захочет продолжить образование в Шанинке даже без аккредитации, выдадут дипломы. Однако в случае приостановки лицензии Шанинка будет вынуждена «перевести [в другие вузы] весь контингент, — то есть всех, кто учится по программам высшего образования». Подробнее читайте в нашем телеграм-канале.
T-i: Можно ли сказать, что черногорский Faculty of Liberal Arts & Sciences — это новая Шанинка?
МК: Некоторые наши шанинские коллеги действительно видят в этом проекте продолжение того, что они делали раньше. И это хорошо. Но у нас есть коллеги и из других вузов. Я не хотела бы называть наш проект ни новой Шанинкой, ни новым Смольным колледжем. Мы стараемся сохранить лучшее, что было в российском образовании, но привить это на новой почве, в новых условиях. В одну воду нельзя войти дважды. Мы — проект с разными корнями, и шанинский корень очень мощный.
T-i: Ваш университет в Черногории теперь и с лицензией, и с аккредитацией. Что чувствуете в связи с этим?
МК: Что назад дороги нет. С каждым годом студентов всё больше — и больше наша ответственность. Мы, конечно, и до этого были готовы, всё-таки три года шли к лицензии. Но теперь это уже необратимый процесс.

T-i: С какими сложностями вы столкнулись с получением лицензии и аккредитации?
МК: Первая сложность в том, что программы Liberal Arts & Sciences в Черногории не было. Нам надо было представить эту программу в Совете по квалификациям высшего образования Черногории и добиться одобрения в Министерстве образования. Это была большая бюрократическая история. Из-за того, что наша система для Черногории была в новинку, всё длилось долго. Но не потому, что нам препятствовали: нужно было время, чтобы объяснить, чего мы на самом деле хотим. Ты вроде бы всё сделал, отдал документы — а дальше ждёшь, ждёшь, ждёшь. Спрашиваешь, тебе не отвечают.
Надо искать какие-то обходные пути, чтобы просто задать вопрос. Появляются специальные люди (у нас такие есть), которые занимаются налаживанием связей именно среди местных. Мы для них немножко чудики. Приходилось вдумчиво, последовательно объяснять: что это за модель, почему это важная квалификация, почему будет круто, если она появится в Черногории, почему мы не собираемся делать русский университет, почему язык обучения будет английский, но и черногорский будем учить обязательно (минимум год), почему для нас это важно. Первые годы прошли в бесконечных встречах с очень разными людьми. Некоторые чиновники отвечали долго, и, наверное, были не рады: мы прибавили им работы. История с лицензией в этом смысле нас немножко извела: мы подали документы в октябре, а получили её в конце мая.
Что удивило? Не скажу, что сильно удивило, скорее позабавило. В черногорском образовании, видимо, осталось много от югославского. Сейчас они, как до недавнего времени и Россия, часть Болонского процесса. Но они, как и в России, стараются эту систему просто натянуть на старую, ничего принципиально не меняя.
T-i: Получается, вы дважды первопроходцы. Во-первых, вы первые из эмигрантов новой волны организовали официальный частный университет за рубежом. А во-вторых, вы первыми на Балканах создали университет, работающий по программе Liberal Arts & Sciences.
МК: Да, это так. Есть коллеги, которые сделали факультеты в уже существующих университетах. Классный математический проект сделали коллеги в Лимассоле. Интересный проект Жанны Немцовой, появившийся ещё до войны, — Академический центр Бориса Немцова по изучению России при философском факультете Карлова университета. Мы тоже думали о том, чтобы встроиться в уже существующий вуз. Но потом вспомнили, что в России мы уже пробовали создавать факультет Liberal arts внутри существующих классических университетов, и это очень непростая история. Поэтому решили двигаться самостоятельно.
СПРАВКА T-INVARIANT
Марина Калашникова родилась в 1973 году. В 1995-м окончила факультет русской филологии и культуры РГПУ им. А.И. Герцена, в том же году поступила в аспирантуру ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). В 2000 году поступила в Европейский университет в Санкт-Петербурге на факультет этнологии. Кандидат филологических наук (диссертация «Современный альбом: история, поэтика, функции»). С 2006 по 2018 годы работала на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ (Smolny College of Liberal Arts and Sciences). Занималась вопросами инсталляции образовательной модели Liberal Arts and Sciences в систему российского высшего образования. Один из разработчиков ФГОС третьего поколения по направлению «Искусства и гуманитарные науки». В 2021 году вместе с коллегами открыла Факультет свободных искусств и наук в МВШСЭН (Шанинке). Факультет был закрыт решением прокуратуры в 2022 году.
T-i: Почему именно Черногория? А не, скажем, Сербия?
МК: От Сербии пришлось сразу отказаться, потому что мы работаем с иностранными агентами, а Сербия известна своей, скажем так, сверхлояльностью к российским властям. К тому же там есть Белградский университет со своими устоявшимися академическими традициями. Во-первых, в Черногории живёт довольно много россиян, причём, много тех, кто делает интересные образовательные проекты. Мигранты, которые уехали из-за войны, переехали с детьми, а их надо учить. Школы здесь растут буквально на глазах. При этом Черногория для россиян уже давно место обжитое, в том числе с точки зрения образования. Во-вторых, своё собственное высшее образование в Черногории появилось только в 1970-е. В огромной Югославии были Загребский, Белградский, Сараевский университеты. А Черногория была курортом. Своей мощной университетской традиции тут нет, она только формируется. То есть рынок здесь, в некотором смысле, податливый. А законы при этом не драконовские. И существующим вузам мы прямой конкуренции не составляем, университетов нашего типа в регионе нет. Мы черногорским абитуриентам даём возможность не уезжать в Голландию или Болгарию, а получить образование по системе Liberal Arts & Sciences здесь.
Пока большого интереса от черногорских абитуриентов мы не видим. Что, конечно, ожидаемо: лицензия у нас только появилась. До недавнего времени мы были зверюшкой неизвестной породы, мелкие и непонятные. Сейчас нас начинают замечать.
T-i: Много ли среди ваших студентов детей эмигрантов последней волны?
МК: У нас учатся очень разные люди разного возраста. Но так с Liberal Arts & Sciences было и в России. Это не только вчерашние школьники, но и взрослые, по разным причинам не получившие образования. Есть те, кто хотел поступать в хорошие российские вузы с программой Liberal Arts & Sciences, но обнаружил, что после 2022 года такие вузы не существуют или существуют номинально, а содержательно уже совсем не те, в которых хочется учиться.
Да, есть и довольно серьёзная когорта — дети уехавших. В 2022-м родители увезли их от войны. Они не планировали учиться в Европе, не закладывали это в бюджет своих семей, не готовились морально. В результате они оказались в Голландии, Израиле или где-то ещё и теперь ощущают себя немножко потерянными. Кому-то не хватает денег, кому-то языка, кому-то учиться не даёт ощущение дискомфорта — по разным причинам эти люди не стали поступать в вузы стран, в которых оказались.
Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.
И есть ещё те, кто начал учиться в России, но по разным причинам бросили российские вузы. Кто-то из них не собирался жить в Европе, но оказался тут без образования. Им нужен хотя бы бакалаврский диплом.
T-i: В соседней Европе немало университетов, где учат на английском языке. Чем вы лучше?
МК: Например, и это существенно, стоимостью обучения. Ещё у нас очень хорошая профессура. Мы шутим, что если бы не было войны, мы бы в России никогда не собрались в одном вузе. Сидели бы — кто в Вышке, кто в Европейском, кто в Шанинке, кто в Смольном колледже. А тут собрать всех под одной крышей оказалось проще. У нас, пожалуй, беспрецедентный преподавательский состав — очень активный, харизматичный, сверхмотивированный. Этого не хватает многим европейским университетам, где профессура сидит спокойно на кафедрах, получив постоянные позиции. Наши же преподаватели на волне энтузиазма сильно вкладываются эмоционально и содержательно.
T-i: Кто вас финансирует?
МК: Никто. Это стартап. Есть частные маленькие спонсоры, которые, например, готовы купить мебель. Ещё есть довольно большой грант от нежелательной организации, не буду её называть. Но он «на поддержку штанов», чтобы мы с голоду не померли. Не покрывает даже расходы по аренде.
СПРАВКА T-INVARIANT
Liberal Arts and Sciences — модель высшего образования, которая предполагает широкое изучение различных гуманитарных, социальных и естественных наук, а также искусств. Целью такого образования является развитие у студентов критического мышления, коммуникативных навыков, умения анализировать информацию и делать выводы. В рамках этой модели студенты имеют возможность выстраивать индивидуальную образовательную траекторию и знакомиться с разными дисциплинами. В результате у каждого студента индивидуальная программа обучения. Наибольшее распространение система получила в середине XX века в университетах и колледжах США. Первый и второй курс обучения не имеет специализации — в течение этого периода студент должен понять, что на самом деле ему интересно. После второго курса студент выбирает основную специальность (major), а после третьего — дополнительную (minor). Первым в России факультетом, работающим по модели Liberal Arts and Sciences, был факультет свободных искусств и наук на базе Смольного колледжа. Сегодня в России больше нет учебных заведений, которые работают по этой модели.
T-i: Как же вы рассчитываете работать?
МК: У нас платное образование. Интересные платные проекты (например, «Пляжный университет»), которые приносят деньги и позволяют финансово поддерживать преподавателей. Конечно, этого недостаточно. Скоро нам придется озадачиться строительством кампуса. Будем искать инвестора.

Университет, идеология, образование и патриотизм
T-i: Как, на ваш взгляд, должны быть устроены взаимоотношения государства и университета в идеальном мире? Как они должны взаимодействовать?
МК: По минимуму. Конечно, если государство даёт университету деньги, вы можете изображать независимое академическое сообщество. Но уровень давления всё равно будет довольно высокий. Даже если государство не финансирует университет, гарантировать его независимость нельзя. Посмотрите, что происходит с университетами в США.
Казалось бы, частные вузы — это частная инициатива, независимая от государства. Казалось бы, задача государства — просто иногда проверять их качество, соответствие нормам аккредитации и лицензии. Но на практике мы видим, что происходит иначе. Целый ряд вопросов, важных для вузов, связан с государством: соотношение выпускников и рынка труда, попытка учесть изменения на этом рынке и прочее. Занятость молодежи, её трудоустройство — вопросы, которые волнуют любое государство. Поэтому нужен диалог. А для этого чиновники должны понимать задачи университета. Не быть на стороне университета, а понимать баланс задач государства и задач университета. Помнить, что университет — это свободное академическое сообщество, это социальное благо. Дорогостоящее, но благо.
Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!
Чиновники не должны забывать про ценности образования, развития личности, прав человека, справедливости, значимость занятия интеллектуальным трудом, накопления культурного ресурса. Это всё задачи университета, которые государство решить просто не может. А университет, в свою очередь, не может залезть в башню из слоновой кости и заниматься только наукой. Какой бы красивой ни выглядела эта идея, мы ходим по реальной земле. Мне как университетскому бюрократу надо понимать, что и почему от нас хочет государство. Наша главная задача – найти такой баланс, при котором студенты получат максимум.
T-i: Какие выводы можно сделать из истории с американскими университетами?
МК: Раньше казалось, что к модели отношений университетов США и государства стоит стремиться: Министерство образования ничего не диктует. Есть ассоциации американских университетов и колледжей, она проводит свою собственную аккредитацию. Это негосударственная общественная организация, которая как бы подтверждает ваше качество. Когда я работала в Смольном колледже, мы дважды проходили аккредитацию с нашим партнёром Bard College, и я примерно понимаю, как сильно аккредитация в США отличается от таковой в России. Там действительно важно содержание курсов, а не бумаги, таблицы и прочий бюрократический хлам. И вот оказалось, что этот баланс очень хрупкий. Невольно задумаешься о роли личности в истории: приходит кто-то, кто начинает ломать существующую систему, и вы ничего не можете этому противопоставить.
Эта история с американскими университетами и опыт с российскими учат нас: надо держаться подальше от государственной власти. Мы видим, что происходит, когда государство видит в высшем образовании инструмент достижения собственных целей. И пока нам, маленьким вузам, остаётся наблюдать за разными стратегиями разных крупных вузов. В России у разных вузов тоже разная стратегия выживания: кто-то сразу прогибается, кто-то пытается лавировать. Нельзя расслабляться в нашем мире.
T-i: Но государство во всём мире пытается влиять на образование, в том числе высшее.
МК: Высшее образование вообще не про идеологию, патриотизм, единомыслие! Университет — это место, где у молодого человека формируется мировоззрение, формируется его личность. И, если вместо образования у вас индоктринация, этот этап будет провален.
Настоящая профессура не имеет морального права тащить в университет свои идеологические предпочтения, навязывать свои представления о мире вместо обучения критическому мышлению. Задача профессуры и университета — давать максимально полную картину, читать со студентами разные тексты и обсуждать их. Преподаватель не должен в аудитории перетягивать студентов на свою идеологическую сторону.
T-i: А это вообще возможно? Насколько реально, чтобы преподаватель гуманитарных наук не высказывал своего личного, в том числе, политического мнения?
МК: Дело не в том, высказывает преподаватель своё мнение или нет. Мне как декану факультета или представителю администрации не важно, какой политической точки зрения придерживается преподаватель. Мне важно, чтобы он обсуждал со студентами разные точки зрения. При этом он, конечно, может сказать, что ему близко, а что нет. Но важно, чтобы после этого не было ощущения, что его мнение единственно верное. Это очень трудная история. Особенно сегодня, когда всё политическое очень обострено. Понятно, что для уехавшей профессуры, у которой есть ярко выраженная позиция, во многом чёрно-белая, это тяжело особенно. Недаром именно из-за этого возникают бесконечные тёрки между уехавшими и оставшимися. Чтобы изучать что-то, надо постоять над схваткой, посмотреть, приподняться, увидеть разное. Понять аргументацию разных сторон, увидеть фреймы, рамки, уметь это обсуждать, уметь видеть сильные и слабые стороны в любой, даже в собственной точке зрения. Это такая же интеллектуальная задача, как подготовить курс.
T-i: Представим, завтра ваши студенты выйдут на митинг в поддержку России. Вы сможете уважать эту точку зрения? Или эта акция будет неприемлемой для вас?
МК: Надеюсь, что наши студенты на такой митинг не выйдут. Для меня такой митинг будет диагнозом, что мы профнепригодны. Не идеологически, академически. Но если отвечать на ваш вопрос — конечно, студенты могут выходить на разные митинги. За пределами аудитории они могут делать всё, что угодно. Они свободные люди.
Образование вживую
T-i: Вы делаете что-то для того, чтобы вне аудитории у студентов было какое-то дело, которое их увлекает, собирает их вместе?
МК: Есть студенты с финансовыми трудностями, они вынуждены учиться и работать одновременно. Но большинство студентов прекрасно самоорганизуются. Есть театр и они тратят на него довольно много своего времени. Многие волонтёрят, помогают беженцам. Но нужно помнить, что не всем нужна эта внеучебная активность. Мы всё-таки придерживаемся идеи индивидуального развития.
В последние два-три года мы увидели, что наши студенты — люди с довольно высоким уровнем стресса. Многие из них уехали из России, не желая уезжать. Это было решение их родителей. Это молодые люди с индивидуальной, очень сложной психологической историей. У нас есть студенты, которым нужна помощь психологов, психотерапевтов. Нам, взрослым, сложно в эмиграции, а им ещё сложнее. Они получают образование в непривычном для них формате Liberal Arts & Sciences, в Черногории, «недружественной стране». Меня, например, родители абитуриентов спрашивают, смогут ли они потом с этим дипломом в России пойти в магистратуру или на работу устроиться.
T-i: И что вы отвечаете?
МК: Говорю: когда режим сменится, возможно. Но скорее всего их дальнейшее образование будет связано с Европой, с Америкой или с Азией, но не с Россией. Для многих это сигнал «стоп». Но тут каждый сам должен принять решение. Конечно, эта история переживается тяжело.
T-i: А если бы у вас совета попросили не ваши студенты, а те, кто тяжело переживает эмиграцию? Что бы вы им посоветовали? Строить жизнь вне России? Или надеяться на скорую смену власти?
МК: Я не могу давать какие-то советы. У меня самой ситуация довольно сложная, поэтому я никому ничего не советую. Это вопрос, который надо решать с психологом, с психотерапевтом, с семьёй, с близким окружением. А я могу только сказать: «Смотри, ребенок, у нас для тебя есть такая возможность. Или такая. Ты можешь ей воспользоваться, можешь не воспользоваться. Это твоё решение. Но пока ты не стал частью нашего мира, мы к тебе не лезем, потому что ты ещё выбор свой не сделал. Если ты делаешь его в нашу пользу, давай!». Родители часто просят меня что-то им посоветовать. Я не делаю этого.
У нас есть родители, которые остались в России, но отправили ребёнка к нам учиться. И ребёнок живёт тихонечко, ничего не постит в Фейсбуке, его фотографий нигде нет — делает вид, что его тут нет. Ему ещё возвращаться, ему пересекать границу туда-обратно. Это их выбор. Мы с коллегами стараемся к каждому подходить индивидуально. У нас маленький набор, всего сорок человек. Так что каждого студента мы хорошо знаем. К тому же учёба у нас не онлайн.
T-i: Это принципиальный выбор?
МК: Мы не любим онлайн. Нам важно видеть студентов вживую, чтобы у них была свои атмосфера и пространство. У них есть библиотека, куда мы стараемся даже не заходить без лишней надобности. Они туда приходят, там книжки, диванчик, столик, чай, это место, где можно чувствовать себя безопасно. Это очень важный вопрос — ощущение безопасности. Когда ты должен читать умные книжки и отвечать себе на вопросы, почему Платон писал так, а Аристотель так, ты не должен при этом думать, постучат ли тебе в дверь вручить повестку, срисовали ли тебя камеры. Для образования необходима безопасность, и мы стараемся её создать.
Есть проекты онлайн. Например, Свободный университет. Это чудесная история: образование как самоценность, без диплома. Люди просто ловят интеллектуальный кайф от того, что кто-то им умное рассказывает. Кому-то такой онлайн формат заходит, и это прекрасно. Но мне кажется, что у многих есть потребность в таком современной варианте Платоновской академии, когда преподаватель знает тебя как облупленного.
T-i: Оставшиеся часто замечают, как меняются уехавшие. Как вам кажется, меняются ли под влиянием россиян страны и общества, куда они переехали?
МК: Конечно, это процесс двусторонний. Очень много зависит и от эмигрантов, и от конкретной страны, и от готовности стать частью нового сообщества, от готовности вас туда принять. Черногория — страна маленькая, 600 тысяч населения. Но даже тут большая русскоязычная диаспора вызывает разные реакции. С одной стороны, все привыкли к тому, что все россияне — туристы: приехали, потратили деньги, уехали. Теперь же люди остались и делают в стране конкурентный бизнес или открывают то, что черногорцы сами не делают. Велик риск геттоизации, когда делают бизнесы «для своих»: русский книжный магазин, русский бар, русскую школу, институт, университет. Такой бизнес вызовет у кого-то интерес, у кого-то — раздражение. Многое зависит от того, как сама диаспора себя ведёт, как она себя позиционирует, насколько она открыта, что она предлагает локальному сообществу.
Нужно ли следить за Тик-током
T-i: Как за последние 15-20 лет изменились студенты? Они совсем другие? Им действительно нужно какое-то другое образование, не такое, какое получали мы?
МК: Честно говоря, не знаю. Всё индивидуально. Может показаться, что они менее внимательно читают. Но мы тоже невнимательно читали. Я по многу раз одни и те же книги перечитываю перед занятиями. Чем более сложный текст, тем больше нужно итераций, чтобы его понять. Это касается и художественной литературы, и нехудожественной.
У меня как у преподавателя есть ощущение дистанции. Я становлюсь всё старше, а студенты всё моложе. Есть тексты, на которые я могла 10 лет назад опираться в качестве примера, понимая, что студенты это читали. Сейчас они этого не читали, не слышали. Они читали, слышали, видели уже другое. Не хуже, не лучше — просто другое. Мы привыкли, к тому, что делали какое-то время назад, но часто это уже не работает. Время заставляет нас придумывать новые ходы. Если вы преподаватель, ваша задача — найти максимально эффективный способ взаимодействия.
T-i: Значит ли, что профессору стоит внимательно следить за тиктоками и рилсами?
МК: Знаете, почему я сторонник Liberal Arts & Sciences? Во-первых, студент этой программы выбирает не только курс, который ему нужен, но и преподавателя. И тогда он приходит на курс мотивированный, понимая, что он сам выбрал тебя. Это снимает не все проблемы, но ряд проблем — точно. Во-вторых, если вы читаете лекции, которые они могут найти в интернете, это никому не надо. Ужас заключается в том, что многие так делают. К каждому следующему занятию надо готовиться заново. Это очень трудоёмкая вещь: найти статьи и книги, прочитать их, придумать задание, поменять его, если интерес проседает. Приходится отодвигать свой персональный рост, двигаться в сторону от науки. Мне тоже пришлось выбирать: поскольку я бюрократ и преподаватель, науки у меня существенно меньше. Осмысленное преподавание требует больших усилий.
T-i: А диплом о высшем образовании в современном мире всё так же важен или ценность девальвируется?
МК: Надо признать, что эпоха, когда диплом играл решающую роль, уходит в прошлое. И это приводит к коллизиям. С одной стороны, есть запрос от рынка труда на конкретных специалистов. С другой, таких специалистов сегодня можно подготовить и за пределами университета. Нужно понимать, что современный университет — это не дипломы и не профессия, а становление. Мы в каком-то смысле возвращаемся к идее ремесленного цеха, каким университеты были в самом начале.
Может быть, это наивно, но мы хотим пересобрать идею университета. Сделать его про смыслы, про целеполагание, про человеческое, про попытку понять, куда мы все движемся. Особенно это важно в социогуманитарных областях. Университет должен вернуться к работе с личностью, с конкретным человеком. Да, это дорого, но это новое дыхание. Мне часто говорят, что программа Liberal Arts & Sciences очень дорогая по своей сути. Да, это дорого. Но это такой способ жизни.
T-i: Вы готовите не только социогуманитариев, у вас в программе есть математика, программирование, natural science. Зачем?
МК: Из своего 12-летнего опыта работы в Смольном колледже и последующей работы в Шанинке я сделала вывод, что дети не делятся на технарей и гуманитариев. Я категорически против специализированных классов в школе. Более того, я считаю, что хуже этого ничего быть не может. Если ребенок легко учит языки, это не означает, что он гуманитарий. Точно так же нельзя ребенка, которому легко дается решение математических задач, сразу записывать в технари. Конечно, есть дети на крайних полюсах, но это исключения. И это не повод затаскивать всех искусственно либо к гуманитариям, либо к технарям. А специализированные классы вынуждают детей разрываться. Думаю, Liberal Arts & Sciences эту историю гармонизирует. Мы никогда не знаем, что и где выстрелит.
В Liberal Arts & Sciences многие студенты сталкиваются с областями, про которые в жизни почти ничего не знали. Они просто не имели возможности понять, что это им интересно. Например, мы ставим курс по антропологии. У нас не планировался этот курс, но оказалось, что студентам это интересно.
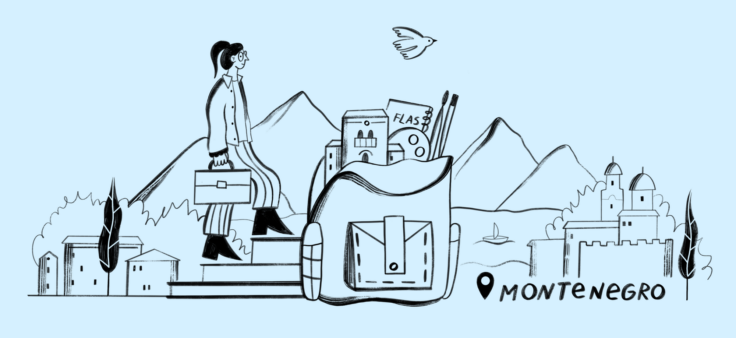
Студенты часто идут за преподавателем, за его харизмой. Безусловно, это не лучший способ выбора профессии. Но представьте, что вы никогда не увлекались компьютерами, а у вас появился классный препод, который всё понятно объясняет. И у вас начинает всё получаться. Если пробовать не в университете, то когда же? Конечно, дешевле всех засунуть в одну академическую группу на четыре года, учить одному и тому же. Это экономит деньги, ресурсы, кадровые резервы. Наверное, государство от этого выиграет. А конкретный студент? А потом мы удивляемся, что у нас армия людей, не работающих по специальности. Потому что в гробу они видели эту работу по специальности после такой учёбы.
T-i: Насколько для России значимы эти бесконечные потери международных коллабораций, совместных программ и даже вузов?
МК: То, что всё это уходит из России, просто ужасно. Потому что вы не можете сравнивать свой образовательный опыт с другими, лишаетесь возможности оценить себя на фоне других. Не включается рефлексия, нет возможности посмотреть на себя со стороны. Для образования это критически важно. Если ты живёшь «в собственном болоте», капсулируешься, ты не можешь оценить, что с тобой происходит. И многие вещи кажутся нормой, потому что не знаешь, что бывает иначе.
Образование в условиях изоляции превращается в идеологизацию. Остаётся одна задача, и всё образование заточено под нее. Это неминуемо ведёт к смерти. Понятно, что в разных областях это происходит с разной скоростью. В советское время мы видели, что математикам, физикам-ядерщикам это особо не мешало. Мы же работаем со смыслами. Нам нужно читать разные книги на разных языках. А что студенты закрытой страны будут читать? То, что их преподаватели смогут провезти контрабандой? Настоящая наука и качественное образование в изолированном мире невозможны.
Посмотрите, как закручивают гайки с иноагентами. А многие из них не просто умные люди, но и отличные преподаватели. Их же лишают возможности преподавать в России. И заменить их, на самом деле, некем.
T-i: Многие вам возразят, что советское образование — вовсе не смерть, оно было одним из лучших в мире.
МК: Советское образование было разным. Например, преподавание древних наук было прекрасно организовано и подкреплено экспедициями. Ничего не могу сказать про технарей, верю, что и с ними работать умели. Но как только мы касаемся каких-то вопросов, связанных с обществом, там ситуация гораздо хуже. Где хотя бы чуть-чуть появляется идеология, наука заканчивается. Это касается политологии, культурологии, социологии, даже современной литературы. Конечно, были отдельные учёные и преподаватели, которые пытались что-то делать на местах. Но в целом понятно, что происходит, если вы не ездите на международные конференции, не имеете возможность читать. Пример: когнитивистика выросла исключительно на международных контактах. Это очень современная наука. Она вся заточена на экспериментальную часть, которую делает огромными лабораториями в международном сотрудничестве.
T-i: Что бы вы сказали человеку (например новому эмигранту), который хочет пойти по вашим стопам и создать частный университет? От чего бы предостерегли, что бы посоветовали обязательно учесть?
МК: Я бы предостерегла ориентироваться только на своих соотечественников. Понимаю, что сейчас мы сами так выглядим. Но нельзя забывать, что мы в другой стране, и надо делать вуз, который для этой страны тоже будет что-то делать и будет значим с этой точки зрения. Нельзя строить образовательную программу, ориентируясь только на уехавших. Надо пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, стать европейским вузом, с другой — использовать интерес к русскому языку. Мы видим, что он есть. Необходимо не потерять аудиторию, которая приходит за качественным русским языком, но при этом не стать российским гетто.