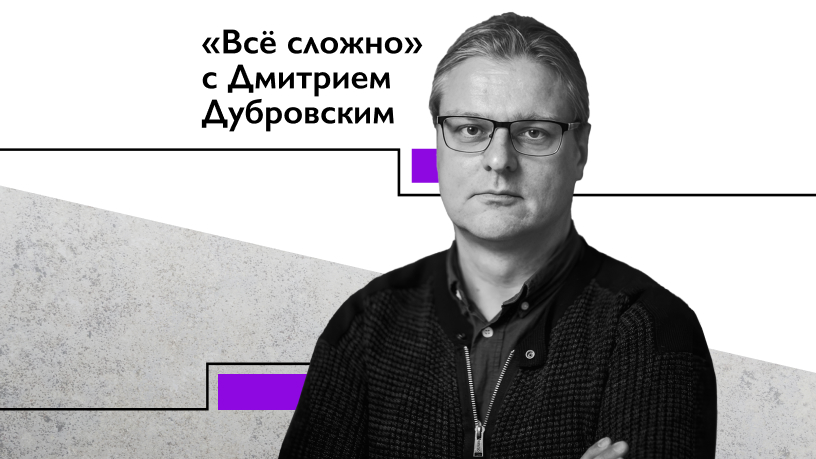
В мире одновременно идёт несколько войн, которые уже переместились на кафедры и в студенческие аудитории. Как вести корректную дискуссию в такое время? Как учить и учиться в условиях, когда преподаватели и студенты не знают друг друга в лицо и общаются под анимированными аватарками? Как университеты в изгнании пытаются сохранить академические свободы для тех, кто их утратил? Почему и в какой момент идея бойкотов университетов начинает противоречить академическим свободам? Применим ли опыт академического бойкота в прошлом веке учёных из Германии или ЮАР к учёным из России и Израиля сегодня? Об этом T-invariant в стриме «Всё сложно» беседовал с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Карлова университета в Праге и профессором Свободного университета Дмитрием Дубровским.
«Всё сложно» — еженедельный эфир на ютуб-канале T-invariant. Сложные новости, сложные вопросы и сложные темы. Приглашённые гости из мира науки и не только. Всё, как вы любите. Каждый понедельник в 19:00мск.
Свободный университет лучше, чем несвободный
T-invariant: В университетах начался учебный год. Свои двери для студентов распахнули также и академические организации, которые смогли создать учёные, покинувшие Россию. На наших глазах формируется новая индустрия — университеты в изгнании. Вы работаете в одном из них – в Свободном университете. Расскажите, зачем такие университеты нужны? Какие задачи они решают? Какие ниши и бреши закрывают?
Дмитрий Дубровский: Свободный университет был создан ещё до войны коллегами из Высшей школы экономики, которых оттуда, как говорят в России, «ушли» — в основном за критику современного политического режима. Как, например, уничтожили кафедру конституционного и административного права и уволили практически всех её основных преподавателей.
И вот преподаватели решили, что раз у них остались студенты, а учить их в Вышке уже стало невозможно, надо создать новое пространство. Свободный университет и стал этой новой формой обучения.
Дмитрий Дубровский — российский историк и социолог, кандидат исторических наук. Работал в НИУ ВШЭ и СПбГУ (на факультете свободных искусств и наук основал программу «Права человека»). Также работал в Российском этнографическом музее, проводил специальные судебные экспертизы в области языка вражды и преступлений на почве ненависти. После начала войны покинул Россию. В настоящее время — приглашённый преподаватель на факультете социальных наук в Карловом университете и профессор Свободного университета.
T-i: И это было как раз во время пандемии.
ДД: Да. Это называется positive externalities, то есть положительный эффект от негативной ситуации, когда онлайн-форма обучения оказалась возможной и востребованной. Мы смогли продолжить преподавать курсы, которые читать в России либо невозможно, либо тяжело. Конституционное право, права человека, gender studies, историческую политику — всё это стали исключать из академических программ российских университетов. На них мы получаем несколько тысяч заявлений от студентов. Они хотят знать то, что им теперь дома в родных вузах не расскажут.
Но есть ещё интересное явление, связанное с новыми возможностями, которые наш университет дает и преподавателям. Многие из них задались вопросом: «А как будет выглядеть мой курс, если я его буду читать так, как я хочу, и в таком объёме как, я считаю нужным? Без этих безумных ФГОСов, пятисотстраничных программ? А как бы я его прочитал, если бы меня никто ни в чём не ограничивал?» Это поразительная свобода.

Дмитрий Дубровский. Фото: https://www.idelreal.org/
T-i: Но она же — свобода от всего? В том числе и от формальных регуляций?
ДД: Свободный университет не выдаёт сертификатов, и у нас вряд ли будет какая-то официальная аккредитация. В Европе тоже плохо понимают, что такое онлайн-университет, да ещё на русском языке. Но в целом это всё равно удивительные возможности для преподавателей и студентов. Узнать то, что нельзя узнать в России, и учить так, как нельзя учить в России.
Для преподавателя это уникальная возможность прочитать, рассказать или сделать свой курс так, как он мечтал, но никогда не мог — потому что всегда есть ограничения по времени, по формату, по каким-то обязательствам, которые прописаны в образовательной программе. Мы свободны не только от государства, но мы ещё свободны от удушающих бюрократических тенет.
T-i: В этом году у вас заявлен 71 курс, что подразумевает наличие множества студентов и преподавателей. Однако 31 марта 2023 года Свободный университет объявили нежелательной организацией, что влечёт за собой уголовное преследование для тех, кто вступает с вами во взаимодействие. Как решается проблема безопасности?
ДД: Студенты у нас продвинутые — не от хорошей жизни, разумеется. Забавно: ты включаешь zoom, а там сидят анимашки. Все студенты занимаются под никами, их имена знает только преподаватель. При этом они ещё делают мультяшки и возникает интересное ощущение, когда ты разговариваешь с синей лисичкой или каким-то фантастическим персонажем.
T-i: То есть вы своих студентов никогда не видели в лицо?
ДД: Из тех, кто в России, — нет, не видел.
T-i: А как происходит приём на курс?
ДД: Студент пишет преподавателю письмо, в котором указывает свой ник, под которым он будет учиться, если его примут. Мы делаем некоторый секьюрити-чек, поскольку были предприняты попытки записаться людьми, которые производили странное впечатление. Не буду вдаваться в подробности, как именно мы работаем с этим, но мы стараемся проверять абитуриентов. Хотя я сам даже не против, если на курс придёт какой-нибудь сексот и внимательно прослушает про академические свободы. Может быть, у него что-то в голове поменяется. Также у нас есть преподаватели, которые живут в России, и они тоже преподают под никами. Кстати, ещё до объявления нас нежелательными была одна показательная история.
Одна очень хорошая студентка слушала мой курс дома тайно. А почему она пряталась? Потому что её родители были категорически против обучения у нас и угрожали написать на неё донос за то, что она слушает наши лекции.
В целом, несмотря на то, что за сотрудничество с нежелательной организацией грозит серьёзная уголовная статья, студентов у нас много. Например, регулярно большой набор юристов, поскольку сегодня в российских вузах то, что называется международным правом, теперь таковым не является. Мы ожидаем сейчас наплыв историков, потому что курс истории ХХ века претерпел сильные изменения в российских вузах. Так что мы закрываем потребности в наиболее удушаемых областях и темах. Мы не ставим своей задачей заменить высшее образование. Мы хотим помочь студентам узнать то, что они не узнают или узнают в кривом виде в российской высшей школе. Не потому что в российских вузах теперь все преподаватели плохие, а потому что их работу во много определяет цензура, самоцензура и давление со стороны администрации. Ну, и потому, что много хороших специалистов уехало.
Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.
T-i: А какова прикладная польза для студентов от ваших курсов, если нет никаких дипломов и сертификатов?
ДД: В этом году пять вузов взяли студентов, которые проходили нашу магистерскую программу по публичному праву, на пять PHD-программ — от Новой Зеландии и Австралии до Великобритании. У них в портфолио эти курсы были зачтены.
Заниматься наукой, а не войной
T-i: Возвращаясь к целям и задачам университетов в изгнании. Получается, что они играют роль академических мостов? Позволяют студентам и преподавателям, которые оказались по разным причинам в изоляции от мирового контекста и от современных программ, оставаться в мировом поле?
ДД: Я бы не сказал, что между нами ров с крокодилами. В России по-прежнему много учёных и студентов, которые читают мировые журналы и западную прессу, но в некоторых областях они уже не могут это публично обсуждать. Так исчезает важнейшая научная практика, когда ты должен презентовать результат своей работы, не боясь цензуры и последствий. И ты должен это делать не только внутри России, но и за её пределами. Вот это для некоторых научных направлений уже проблема. Поэтому у меня есть один «закрытый» проект, в котором студенты и преподаватели встречаются раз в неделю и рассказывают, как они живут, как учат и учатся. Люди делятся ежедневными наблюдениями за университетами в эпоху СВО: что происходит, как ведёт себя университет, как меняется наглядная агитация, что там говорит ректор, куда девался преподаватель — пошёл он на войну или не пошёл. Это такая повседневная антропология войны в российской академии.
Люди приходят на наши встречи с одним простым желанием: им надо где-то подышать. Это возможность побыть немножко свободным в уже несвободной стране.
T-i: Таким образом вы возвращаете преподавателей и студентов в поле академических свобод. В связи с этим возникает вопрос: деятельность университетов в изгнании не противоречит тем политическим решениям, которые сейчас принимаются как раз по ограничению академических свобод? Имеется в виду бойкоты научных организаций, институций и конкретных исследователей. Разве сама история про бойкоты, которая набирает всё больше и больше популярность в последние три года, не противоречит сути академических свобод?
ДД: Тут вопрос сложный и состоит из нескольких частей. Во-первых, надо помнить, что всё-таки академические права и свободы — те права и свободы, которые реализуют и защищают внутри собственно академического общения или академической коммуникации. Каждый из нас является учёным и одновременно гражданином. И у нас есть некоторая сложность понимания, соответствуют ли вообще логике прав человека бланкетные (установленные самостоятельно. — T-invariant) санкции, которые вводятся против граждан Российской Федерации. Потому что большей частью, когда говорится о нарушениях прав учёных и преподавателей за рубежом, это не совсем про нарушение именно профессиональных прав. Это просто про тот факт, что если ты имеешь красный паспорт, то имеешь большие проблемы с получением визы, с открытием счёта в банке и даже с переводом денег из одного места в другое. С чем, собственно, я столкнулся не так давно, когда выяснилось, что я не имею права помочь деньгами коллегам в Казахстане, которые бежали в тот момент от мобилизации, потому что мой банк считает это нарушением санкций, наложенных на российских граждан. Кстати, это не всегда и не везде результат действий самого правительства или государства. Это часто принципы, которые разные учреждения сами и провозглашают.
Вот один из недавних примеров, о котором я узнал от коллеги из ведущего российского вуза. Она поехала в Польшу на конференцию и указала про себя, что она «независимый исследователь». Но тут польский вуз решил, что от него требуется compliance. Они нашли её имя на сайте российского вуза (не из санкционного списка, не из Сколтеха или МФТИ) и написали ей злобное письмо: поскольку мы вдруг обнаружили, что вы аффилированы с российским университетом, мы считаем, что ваше участие в программе будет нарушением санкций. Вот это, мне кажется, как раз пример нарушения логики академической свободы. Она сама хотела выступить, не представляя университет. Но ей не дали этого сделать. Ну и вторая проблема, очень сложная для европейских учёных, связана с тем, что украинские коллеги часто и по вполне понятным причинам вообще не хотят, чтобы российские учёные так или иначе с ними вместе ходили по одним коридорам на одной конференции. И из-за этого получается, что имея в виду такой странный выбор, коллеги говорят: «Ну, понятно, раз так, значит, российских учёных на конференции не будет».
T-i: Является ли это нарушением академической свободы?
ДД: Это вопрос открытый. Начиная со Второй мировой войны мы не имели примеров такого странного выбора. А во время Второй мировой войны всё было довольно просто: немецкие учёные были забанены и по условиям войны, и по условиям общего мирового отношения. Тому, кто бежал, тем и помогали. А все остальные были просто тотально исключены из мирового академического обмена. И от этого удара Германская академия, как мне кажется, не отправилась до сих пор. Это к вопросу о последствиях.
T-i: Видимо, именно по этой аналогии коллеги из других стран предлагают поступить точно так же с российскими учёными, которые остаются работать в России?
ДД: Да, и это очень сильное упрощение сегодняшней ситуации. В одной статье вполне уважаемых людей в уважаемом журнале я увидел аргументы, которые меня удивили. Авторы посчитали количество учёных, которые подписали антивоенные воззвания в начале войны. Затем они разделили на общее количество российских учёных и заявили, что это всего 2%, поэтому нечего беспокоиться — все остальные 98% «за». Это сильная социологическая выкладка, «нечем крыть». Но в то же время есть и другая ситуация, о которой мне рассказывали украинские коллеги.
Представьте: март 2022 года. Их дома бомбят. И начинается онлайн-конференция, запланированная ещё до войны. Участвуют украинские и российские учёные с темами, далёкими от политики. И все украинцы ждут хотя бы какого-то намёка на сочувствие. Никто не ждал, что люди выйдут с украинским флагом на улицу, но сказать хоть что-то человеческое можно было? Но нет, ничего не прозвучало. Мол, это всё политика, давайте, как это сказать, do science as usual.
Я думаю, это самое мерзкое, и именно это украинские учёные нам действительно не могут простить. И я их понимаю. И то, что российских учёных подозревают в неискренности, если не сказать во лжи (неважно, кто в России, кто здесь — в общем, одинаково) — это отчасти происходит из-за того, что какой-то долгий период большое количество людей пыталось сделать вид, что ничего не происходит, что мы как будто во времена холодной войны общаемся. Но это не холодная война, это горячая: людей бомбят. И, если вы не выражаете отношения к происходящему, вы получаете требования тотального бойкота, основанные на психологической деревянности и отсутствии эмпатии у российских учёных по отношению к украинским.
T-i: Давайте теперь перейдём к теме другого бойкота, который разворачивается на наших глазах, — бойкота израильских учёных. Вот один из примеров. В 2005 году Американская ассоциации университетских профессоров выступала против формы такого протеста — бойкота израильских университетов. И она открыто говорила, что недопустимо отвергать израильские институты. А теперь эта же самая группа заявляет, что на самом деле бойкоты израильских институтов можно считать законными тактическими ответами. Что меняется?
ДД: Я призываю всё-таки внимательно прочитать эти последние поправки, в августе 2024 года они опубликованы на сайте American Association of University Professors (AAUP). И надо отметить, что отношение к бойкоту израильских университетов было разным. Мы знаем, что часть американских ассоциаций тогда бойкот поддержала. Это только AAUP вообще было против. А, скажем, недавно к этому требованию бойкота примкнула Американская ассоциация антропологов и часть британских университетов. В 2005 году основной призыв был направлен на бойкот не вообще всех израильских университетов, а двух: Бар-Илана и Хайфы.
Здесь есть один важный момент: единственный раз, когда Американская ассоциация университетских профессоров поддерживала бойкот, это была ситуация с Южной Африкой. Но с Южной Африкой ситуация была чуть более понятной. Потому что, как мы знаем из истории апартеида, в Южной Африке были университеты для чёрных и для белых. И поэтому люди, которые работали в белых университетах, вольно или невольно участвовали в политике апартеида. И в этом смысле они напрямую несли за неё ответственность. И, кстати, это то, что в документе AAUP как раз и сказано: важно не размазывать эту ответственность в произвольном порядке.

Массовые протесты против расистской политики в Южной Африке. 14 июня 1986 года. Фото: James Hughes / NY Daily News / Getty Images
Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!
Ещё важно, что там отдельно говорится: совершенно невозможно это применять в случаях академической коммуникации, то есть для публикации в статьях или в научных конференциях. И у бойкота есть альтернатива: если вы хотите отреагировать на конкретных людей, очень хорошо реагировать на конкретных людей. Но я боюсь, что вот это та же логика под названием: «Давайте бороться с российской агрессией! Не дадим визы ни одному российскому человеку, потому что они все агрессоры ну или no matter what». Эта бланкетная норма всем очень симпатична. С бюрократической точки зрения она ещё и удобна: не требует приложения никакой мысли и рефлексии.
T-i: Но есть же устоявшийся базовый принцип, что нельзя дискриминировать людей по групповому признаку, по их принадлежности к какому-то университету, к какой-то институции?
ДД: Я бы не стал использовать термин «дискриминация» здесь, тем более имея в виду законы военного времени. Это может влиять, а может и не влиять на академические коммуникации и на академическое общение, на академическою свободу напрямую. Не говоря уже о том, что академические права и свободы — всегда персональный сюжет. Массово нарушать права человека можно, а массово нарушать академические права нельзя. Это каждый раз это case by case.
Поэтому, когда мы говорим про бойкот, самое главное — определить основание ответственности, скажем, учреждения. И в этой логике ситуация в Израиле для меня достаточно сложная. Если мы докажем (я не скажу, что это правда), что какой-то конкретный институт легитимизирует то, что критики Израиля называют апартеидом, тогда эта логика становится легитимной. Но не наоборот. То есть нельзя вводить бойкот, потому что no matter what, все израильские, так сказать, учёные, академики должны быть забанены. Нет, невозможно бойкотировать вообще всех израильских учёных просто потому, что они израильские. Может быть, предположим, мы имеем спорную территорию: Израиль считает её своей, а, скажем, Палестина — оккупированной территорией. И на этой оккупированной территории есть израильский вуз, я сейчас не буду говорить какой — не важно. Если мы исходим из этой логики, то принцип академической свободы в таком случае вступает в противоречие с принципом международного права. Если, например ООН считает эту территорию палестинской, а Израиль на ней построил, кроме поселений, ещё и университет, тогда возникает вопрос: «А с чем мы имеем дело?» Мы имеем дело с целой институций, которая легитимизирует, опять же, с точки зрения ООН, этот самый захват? То есть поселение это делает своим образом, университет это делает своим. Если это так, тогда люди, работающее в этом университете, по крайней мере руководство, может быть бойкотировано именно в связи с их непосредственным правом. Опять же, речь не идёт о всех сотрудниках, речь не идёт о студентах, речь не идёт о бланкетной норме. Речь о руководстве, которое представляет конкретную институцию. Поэтому, кстати, я эмоционально понимаю, когда люди говорят: «Вон там 450 российских ректоров выступили за поддержку войне, давайте разорвём все отношения». Потому что институциональное общение идёт юридически через руководство.
Это очень чувствительная, эмоциональная тема, которая порождает политические расколы и конфликты, не только американские, но и европейские. И арабо-израильский конфликт именно такой. Все, кто занимается политическими науками, знают, что в нём почти невозможно сохранять трезвую голову. Там всегда возникает очень мощное желание с кем-нибудь солидаризироваться, взять какую-нибудь сторону.
Так вот, я думаю, что здесь самая большая проблема — определить степень ответственности и реальную ответственность конкретного человека. То есть не бланкетно, не всех подряд, а определить принцип и дальше нарушение этого принципа должно караться не вообще, там, не знаю, баном пожизненным или там политическим, а конкретными последствиями.
Ниточки и коридорчики
T-i: Недавно в Boston Globe вышла статья президента университета Технион Ури Саймона, где тот обращается к академическому сообществу и напоминает, что призыв к бойкоту всех израильских университетов подрывает фундаментальные академические ценности. И ещё он говорит о том, что в израильском обществе академическое, университетское сообщество — одно из самых демократичных и прогрессивных. И если мы представляем себе расклад политических сил в Израиле, то именно университетское сообщество в меньшей степени несёт ответственность за действие своего правительства. И получается, что призыв к бойкоту израильских университетов — попытка возложить ответственность на тех, кто уж точно не отвечает за то, против чего выступают защитники Палестины.
ДД: Да, это, надо сказать, очень похоже на логику украинских коллег, которые говорят: раз они работают в научных институтах, значит они все работают на войну. И поэтому этот академический бойкот рационален и легитимен. Вот это примерно та же логика.

Технион, Израиль. Фото: https://www.technion.ac.il
T-i: Интересно, что при этом в мировом академическом сообществе есть люди, которые противостоят бойкоту израильских университетов, но при этом активно поддерживают бойкот российских учёных, университетов. Одновременно. Как вы это объясняете?
ДД: Отсутствием системности, отсутствием общей логики. Мы должны договориться до неё. Но это трудно, потому что никто не был готов к войне в начале ХХI века на территории Европы между странами с развитой образовательной, научной системой, с огромным количеством учёных, вовлечённых в том числе и в европейскую международную knowledge production. Никто не знает, что с этим делать. С Израилем в этом смысле ситуация иная, там история бойкотов долгая…
T-i: Вот ещё один пример. Есть такая большая Международная ассоциация студентов-медиков IFMSA — около полмиллиона студентов-медиков по всему миру. И они сейчас исключают израильских членов из своей организации. Это не политическое, а чисто профессиональное сообщество, реагируя на военные действия Израиля и его защиту после нападения 7 октября, решает, что израильтянам среди них не место. Как такое стало возможным?
ДД: Знаете, такая реакция была не только там, но и ещё во многих правозащитных организациях. И я боюсь, что простыми ответами, вроде того, что все кругом антисемиты, тут не обойтись. Мне кажется, большинство людей руководствуется всё-таки какими-то другими принципами. И именно поэтому я думаю, что, возвращаясь к персональной логике, институциональную логику, как ни странно, определить легче.
Ещё раз подчеркну, что надо изначально договориться о принципах. Есть очень важный сюжет, связанный с антисемитизмом, на который я обратил внимание. В Америке уже почти 30 лет в одном из колледжей есть такой известный человек, который преподает электроинженеринг, — Arthur R. Butz, Associate professor, Northwestern University. Но за пределами колледжа он один из самых известных отрицателей Холокоста. У них было такое гнездо в Institute of Historical Review, компания странных фриков, которые обсуждали отрицание Холокоста, уфологию, рептилоидов — в общем, всякие безумства. И, в частности, еврейское сообщество в Америке очень долго пыталось выгнать его из этого колледжа. А ректор этого колледжа говорит: «Знаете что, он как гражданин там у себя реализует первую поправку. Он может печатать всё что угодно. А в аудитории он не говорит ни единого слова об этом. Он, похоже, хороший преподаватель, у него хорошие студенты».
И эта логика мне кажется очень важной. В рамках такого подхода мы должны разделять учёного и гражданина. Как гражданин Артур Бутц может пользоваться первой поправкой и писать любой бред, который ему кажется важным. Вопрос в том, что Артур Бутц никогда ничего об этом не говорит на лекциях. Однако, если это историк, который говорит на лекциях, что Холокоста не было, это плохой историк, и он не должен преподавать в силу квалификации. А если преподаватель говорит об этом на лекциях инженерам, он тратит оплаченное время на предмет, который находится за пределами изучаемой дисциплины. И тогда администрация должна реагировать на его слова. А если он это делает вне аудитории, то это не дело администрации.
Поддержать работу T-invariant вы можете, подписавшись на наш Patreon и выбрав удобный размер донатов.
Это совершенно не означает, что мы обязаны учитывать такого учёного в реальном научном взаимодействии. Да, если мне не хочется с ним встречаться, я говорю: «Не, ребят, знаете, я с этим человеком не хочу встречаться. Мы не пригласим его на конференцию, мы не сделаем его keynote speaker, пусть он сидит у себя, развивает науку так, как ему хочется. Просто потому, что он человек, которого мы этически не можем принять». И я думаю, что прямые провоенные призывы можно не санкционировать с помощью государства, а просто считать нарушением академической этики. И в этом смысле человека нельзя исключать из международных коммуникаций просто потому, что это нарушение академической этики. Но это не про науку, это про академическую гигиену, если угодно.
T-i: Есть ещё один кейс, в котором видно, как можно избежать коврового бойкота по одному национальному признаку. Это сюжет с продлением соглашения между Объединённым институтом ядерных исследований в Дубне и CERN. Когда CERN большинством голосов решил продолжить сотрудничество, это стало сенсационным решением.
ДД: Тут у меня подозрение, переходящее в уверенность, что вообще учёные из STEM (science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика. T-invariant) на академическую свободу смотрят несколько иначе, чем учёные из общественных и гуманитарных областей. Для них, как мне кажется, это в меньшей степени вопрос ценностей, чем прагматики. Видимо, они считают, что поскольку результат их деятельности не имеет отношения к войне, а связан с тайнами природы, похоронить такую работу тридцатилетней давности было бы неправильным.
Складывается ощущение, что мы ползём в сторону логики советского времени, Холодной войны, когда идеологические вещи, гуманитарные, социальные науки не допускали никакого общения между Западом и Россией, поскольку они разъезжаются с точки зрения цели, задачи и содержания. А что касается физики, химии, экологии, то можно себе представить какой-то частичный возврат. Как бы война ни кончилась (она когда-нибудь кончится), от этого ситуация лучше не станет. И мне кажется, что здесь есть такой раскол между прагматической логикой долговременных проектов области STEM и ценностной логикой социальных наук. Потому что гуманитарные, социальные науки слишком сильно связаны с публичной политикой, с ценностями, с демократией и так далее. И, конечно, общие научные проекты в области гуманитарного и социального знания с авторитарным государством, ведущим агрессивную войну, сложно себе представить. А CERN и ОИЯИ, видимо, могут продолжать взаимодействие.
И я думаю, что это рационально — иметь какие-то всё-таки коридорчики, ниточки, потому что для всех, прежде всего для России будущего, лучше иметь хоть какие-нибудь ниточки, чем никаких. Но, опять же, я не уверен, что в данном случае мы имеем дело с защитой академической свободы. Здесь просматривается скорее политическое решение, а не решение, основанное на принципах. И я думаю, что украинские коллеги из CERN со мной бы согласились. Потому что непонятно, с чего бы это вдруг с российскими вузами нельзя коммуницировать, а с ОИЯИ можно.
T-i: Факт в том, что единый подход действительно отсутствует. Мы видим это по политике научных журналов, по политике профессиональных научных ассоциаций: они ведут себя по-разному. Даже оргкомитеты конференций ведут себя по-разному — это правда. Это означает, что мы живем во времени, когда рушатся одни устоявшиеся коммуникативные правила и формируются новые?
ДД: Конечно. Меня недавно поразил один эпизод на конференции в Вильнюсе, где мы обсуждали академические проблемы. На заключительной сессии встала физик, беженка из Ирана и сказала: «Я очень хочу поддержать российских коллег. Знаете, что меня больше всего поражает? Вот когда ты приезжаешь в Европу из Сирии — ты учёный-беженец из Сирии. Когда приезжаешь из Беларуси — ты учёный-беженец из Беларуси. А когда ты из Ирана, ты иранский гад и потенциальный шпион. Так и российские учёные-эмигранты или приезжие воспринимаются». Так что у нас есть братья по несчастью, которые воспринимаются в Европе действительно скорее с точки зрения безопасности и с точки зрения таких бланкетных норм. К примеру, её муж, тоже учёный, который жил три года в Иране, теперь не может найти себе работу в Германии, потому что он не проходит Security Clearance.
Это лишь маленькая иллюстрация к тому, что есть мощная проблема с учёными из авторитарных стран, которые вообще-то оттуда бегут, потому что они не хотят там находиться по причине войны, репрессий и так далее. Но, приезжая в Европу, тут же становятся гражданами этого самого проклятого государства и получают в наследство проклятья по полной программе. Поэтому мне кажется очень важным разделять дискуссию относительно санкций и прав человека — и академических прав и свобод. Академические свободы касаются внутренних академических коммуникаций и академических институций. Это более тонкая и сложная проблема, к которой ещё только предстоит найти правильный подход.