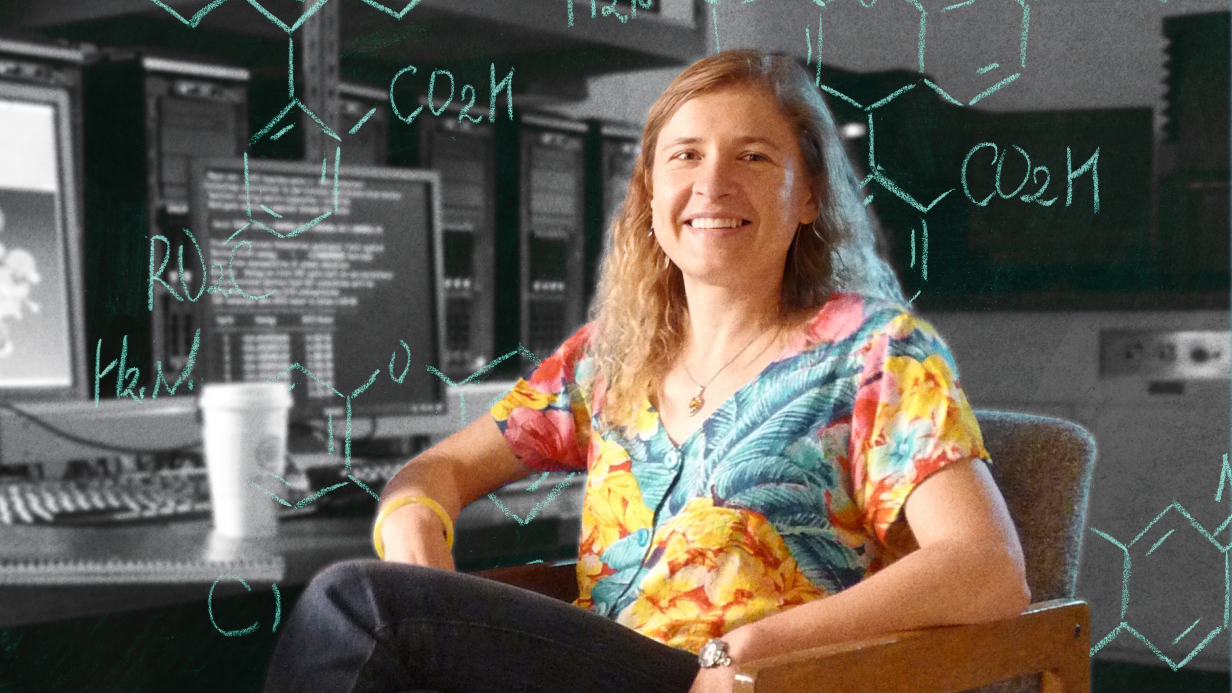
15—16 ноября 2025 года в Нью-Джерси пройдет церемония вручения премии Гамова, учрежденной Русско-американской ассоциацией ученых (RASA-America, Russian-American Science Association). Одним из лауреатов этого года стала профессор химии Университета Южной Калифорнии Анна Крылова. В октябре она объявила бойкот издательской группе Nature, отказавшись рецензировать публикацию для журнала Nature Communications — из-за несогласия с политикой продвижения повестки социальной справедливости. По мнению Крыловой, издательская группа Nature подрывает целостность редакционного процесса, используя критерии идентичности вместо меритократии, а также прибегает к цензуре под предлогом предотвращения «вреда» уязвимым группам. С ней согласны многие другие ученые, в том числе известный популяризатор науки Ричард Докинз.T-invariant поговорил с Анной Крыловой о том, почему политике не место в науке, за что можно «отменять» ученых и как противостоять научной цензуре.
СПРАВКА T-INVARIANT
Профессор химии в Университете Южной Калифорнии. Получила степень PhD в Еврейском университете в Иерусалиме. Ведет исследования в сфере теоретической и вычислительной химии, разрабатывает методы теоретического моделирования молекул с открытой оболочкой и электронно-возбужденных молекул, включая метастабильные системы (резонансы). Президент Q-Chem, Inc. — компании, которая разрабатывает программное обеспечение для квантовой химии. Лауреат ряда престижных премий, в том числе, The Barry Prize of the American Academy of Sciences and Letters и The Plyler Prize for Molecular Spectroscopy. Избранный член International Academy of Quantum Molecular Science, Academia Europaea, American Academy of Sciences and Letters и American Academy of Arts and Sciences.
T-invariant: Вы получили премию Гамова «за пионерский вклад в теоретическую и вычислительную химию, особенно за развитие новых методов теоретического моделирования молекул с открытой оболочкой и электронно-возбужденных молекул». Расскажите, над чем вы сейчас работаете? В чем суть новых методов теоретического моделирования молекул и практическая ценность таких разработок?
Анна Крылова: В самых общих словах, я занимаюсь квантовой химией — это приложение квантовой механики к молекулам. Это очень сильная область, которая дала много мощных методов, что во многих случаях позволяет заменять эксперименты вычислениями. Но также есть целые области, где квантовая химия беспомощна. И в этом мой основной интерес — расширить эти методы и научиться работать в доменах, где обычные техники не работают.
Моя группа занимается тремя направлениями. Первое — развитие методов для описания спектроскопии в режиме высоких энергий, таких как рентгеновское излучение. Это важные экспериментальные методы, однако, чтобы их проинтерпретировать, нужно расширить квантовую механику. Второе направление, связанное с этим, — описание состояний в континууме, таких как свободные электроны, молекулы и электроны в плазме. Это важно для многих приложений, в частности для химии в высокоэнергетических условиях и в присутствии радиации. С точки зрения теории, это одна из самых сложных проблем, вызывающих как концептуальные, так и технические трудности, можно сказать, еще со времен Гамова. Третье направление довольно новое, оно связано с CISS-эффектом или эффектом хирально-индуцированной спиновой селективности — это когда хиральные молекулы могут работать как спиновые фильтры, то есть проявляют разную спиново-зависимую проводимость. Это потрясающе интересно, эксперименты показывают, что такой эффект есть, но непонятно почему он возникает. Все эти направления работы помогают понять фундаментальные процессы и законы. Кроме того, для них есть много практических приложений: например, они смогут расширить технологии преобразования и утилизации энергии, катализа, квантовой информации. Все всегда начинается с фундаментального понимания, первый шаг — физики и химики разбираются, как работает эффект. Как потом это глубокое понимание перевести в технологию — это уже задача инженеров.
Некоторые вещи мы хорошо понимаем уже сейчас и разработали методы, которые могут применяться рутинно. Например, для состояний в континууме есть набор методов, которыми уже пользуются другие группы, чтобы интерпретировать свои исследования. А где-то мы в самом начале пути, например, в том, что касается CISS-эффекта. Пока не ясно, как возникла моно-хиральность в биологии, например, почему в белках молекулы аминокислот только одного типа — L-аминокислоты, которые как левые перчатки, а D-аминокислоты, которые как правые перчатки, не используются. Общепринятого объяснения нет, возможно, CISS-эффект как раз поможет разобраться, как так сложилось.
Есть интересные эксперименты, мы пытаемся на них смотреть с точки зрения теории, но ответов пока нет. Наука этим и замечательна, что никогда не скучно — просыпаешься с утра и не можешь остановиться, думаешь, что можно сделать, чтобы решить загадку, как продвинуться.
DEI: discrimination, entitlement and intimidation?
T-i: Изменилось ли что-то в вашей работе или работе коллег после выборов, когда президентом стал Трамп, и если да, то что? Как это сказалось на вашей научной области?
АК: Изменилось многое — переход был монументальный. Я начну с положительных изменений, что, наверное, не совсем обычно. Самое главное — отход от политики DEI (diversity, equity and inclusion) и восстановление принципов меритократии и научной независимости. На мой взгляд, это замечательно. Трамп уже в январе 2025 года заставил федеральные научные агентства, такие как National Science Foundation (NSF), Department of Energy, National Institute of Health (NIH), отменить инициативы DEI. До января мы должны были подавать с каждым техническим грантом «клятвы верности» и планы, как будем в нашей работе продвигать diversity, equity and inclusion. То есть неважно, чем занимается ученый, он должен внести вклад в «продвижение мировой революции», как в старые времена. Теперь это отменили. Также Трамп борется с незаконной дискриминацией по принципу идентичности в университетах. Может быть, выступает чересчур агрессивно, но это все равно хорошо, потому что дискриминация была массивной, это было и несправедливо, и неразумно с точки зрения прогресса и науки.
РАНЕЕ В T-INVARIANT
Отбор лучших vs академическое равенство: почему практики DEI не приживаются в Германии
Не только DEI и DOE: как политика Трампа разрушает американскую науку
Есть и отрицательные моменты. Как мы и ожидали, возникла неопределенность, хаос. Сейчас, например, правительство США приостановило работу, федеральные агентства не работают, отменили grant review panels — то есть рассмотрение заявок на гранты. Многие университеты находятся под санкциями — возможно, справедливыми, поскольку были пойманы на дискриминации и антисемитизме, но многие ученые, особенно те, что работают в области STEM, наказаны несправедливо. Санкции налагаются на весь университет, так что все ученые не могут продолжать работу. В некоторых университетах финансирование всех программ заморожено без всяких объяснений — это тоже огромный вред для науки.
Я надеялась, что с этими преобразованиями мы увидим уменьшение бюрократических требований, но пока неясно, произойдет это или нет. Я оптимист и считаю, что, когда все устаканится, мы будем в лучшем положении, чем раньше.
T-i: Недавно вы отказались рецензировать статью в журнал Nature и в принципе сотрудничать с этой группой журналов из-за того, что она продвигает повестку социальной справедливости. Почему, по вашему мнению, такие попытки обеспечить ученым из разных групп равный доступ к публичности, как обращение к женщинам-исследователям и «справедливость цитирования», вредят науке? И почему вы считаете, что борьба Трампа с DEI уменьшает дискриминацию, а не увеличивает ее?
АК: Здесь полезно вспомнить уроки из произведений Оруэлла. DEI, diversity, equity and inclusion — разнообразие, равенство и инклюзивность. Кажется, это замечательно, какой монстр может возражать.
На самом деле эта система работает примерно как Министерство любви из «1984». Мой перевод DEI — это не diversity, equity and inclusion, а discrimination, entitlement and intimidation — дискриминация, право на особое отношение и запугивание. Это то, что они делают на практике. Я считаю, что DEI принципиально работает против справедливости и против идей просвещения и гуманизма, которые являются фундаментом демократического общества.
Согласно им, мы должны оценивать людей по их заслугам, тому, что они делают, какой вклад вносят в науку. А по политике DEI людей оценивают по принадлежности группе. Это похоже на то, как было в Советском Союзе. Если человек принадлежит к классу рабочих и крестьян, это хорошо, а если родился в семье интеллигентов или, хуже того, в семье с буржуазным наследием, значит, он нежелательный классовый элемент — независимо от того, что думает и делает.
Если подвести итог, я против DEI в науке по двум причинам. Первая — прагматическая: если мы заменяем меритократию и учет заслуг на идеологию, страдает наука, так как ресурсы распределяются без учета вклада и потенциала ученых, а по принципам некой социальной справедливости. Вторая причина — моральная. Такое распределение ресурсов глубоко несправедливо, оно подрывает основные принципы гуманизма и на практике приводит к дискриминации. Например, сейчас мы видим дискриминацию мужчин, и она ничем не лучше дискриминации женщин, которая существовала раньше. Мы должны пытаться построить общество, которое дает всем равные возможности и оценивает людей адекватно их заслугам, а не общество, где всех оценивают по цвету кожи или половым признакам, что несправедливо и неэффективно.
T-i: Что же тогда делать с проблемой социальной справедливости и неравного доступа, дискриминацией ученых из отдельных групп? Сталкивались ли вы лично с такой проблемой как женщина-ученый и какие меры тут могут помочь?
АК: Меня этот вопрос волнует много лет, я начинала карьеру в условиях явной дискриминации и культурного предубеждения против женщин. Я могу рассказать много историй о том, как это раньше выглядело, так же все мы помним истории Марии Кюри, Лизы Мейтнер и других женщин-ученых, которые сталкивались с невероятной несправедливостью. Сейчас ситуация кардинально изменилась. На вопросы о дискриминации и предубеждениях можно отвечать путем исследований, путем статистики. Например, мы вместе с моим коллегой-статистиком проанализировали одну из статей, которую часто цитируют, как доказательство предубеждения против женщин в академической среде. Исследователи оценивали коэффициент принятия научных статей в журналы с учетом пола авторов. Во-первых, разница между когортами мужчин и женщин была маленькой — в пределах 1—2%. Во-вторых, чтобы адекватно оценить результаты, нужно учитывать факторы, которые могут влиять на то, что мы изучаем. В медицине хорошо знают, что если ученые, допустим, хотят выяснить, влияет ли кока-кола на здоровье, недостаточно показать, что у людей, выпивающих много этой газировки, развивается какая-то болезнь. Нужно учесть другие факторы, которые могут ее вызывать: вредные привычки, экономический статус и так далее. То же касается исследований, изучающих частоту публикаций или цитирования. Даже если видны разные результаты для женщин и мужчин, надо учесть сопутствующие факторы. Например, если в среднем женская когорта моложе мужской, естественно, результат будет разным. Конечно, различия в когортах по возрасту сами по себе могут быть следствием дискриминации, но чтобы правильно ответить на вопрос, есть ли предубеждения в публикациях и цитировании, сначала надо корректно проанализировать данные.
Во многих исследованиях, которые цитируют, чтобы поддерживать DEI, этого сделано не было. Многие социальные психологи сейчас серьезно изучают этот вопрос. Например, в 2023 году был опубликован масштабный метаанализ трех авторов, они изучили все опубликованные на тот момент работы по теме, чтобы исследовать предвзятость против женщин в STEM. Они грамотно проанализировали данные, контролируя все возможные факторы, и изучили доказательства дискриминации женщин во время приема на работу и принятия статей в журналы, в заработной плате, в оценке грантов, рекомендательных писем и оценки качества преподавания.
Выяснилось, что в большинстве областей предвзятости нет, а разница в заработной плате оказалась не такой значительной, как обычно утверждают, — не 20%, а около 4%. С этим тоже, наверное, стоит бороться, но проблема явно не так велика. Более того, в исследовании обнаружили сильную предвзятость в пользу женщин при приеме на работу. Я это вижу и на практике: молодые парни, которые хотят работать, но им не дают себя проявить только из-за их пола. Это так же несправедливо, как и то отношение к женщинам, которое было 50 лет назад.
На мой взгляд, уже достаточно исследований — хотя их публикацию пытаются зажимать — показывающих, что культура, система академической науки и демография изменились настолько, что главу, касающуюся дискриминации женщин в развитых странах, можно закрыть и заняться другими проблемами, которые существуют в обществе.
Отмена русской культуры и гуманизм
T-i: RASA — ассоциация, которая объединяет ученых из стран бывшего Советского Союза, работающих или обучающихся за пределами РФ, независимо от их гражданства, вероисповедания, политических взглядов и экономических интересов. А как вы считаете, может ли ученый быть вне политики?
АК: Я считаю, что ученый обязан быть вне политики в том смысле, что когда он в лаборатории, политика должна оставаться за дверью, нужно фокусироваться на науке и исследованиях. Также важно оставаться вне политики, когда мы выступаем как эксперты, консультируем политиков. Если ученые этого не делают, они теряют доверие, их не будут серьезно воспринимать.
При этом ученые — люди и граждане, и у них есть политические взгляды. Для успеха демократии они обязаны участвовать в политической жизни страны, в том числе в выборах и разных политических движениях. При этом важно разделять то, что мы делаем как граждане вне науки, и то, что мы делаем как ученые. Это не всегда легко, но это должно быть целью.
T-i: Насколько важны сейчас такие инициативы как RASA, объединяющие ученых и поддерживающие представителей русскоязычной диаспоры?
АК: Русскоязычные ученые, которые вышли из бывшего Советского Союза, несут уникальный коллективный опыт. Я считаю, что он необходим западному обществу. Люди моего поколения хорошо знают на практике, что такое коммунизм, как он прикрывается красивыми лозунгами. Мы легко узнаем марксизм в современных постмодернистских идеологиях. Я считаю, что мы можем помочь западному обществу распознать опасность этих идеологий, которые широко распространены, особенно в университетах, а сейчас влияют и на политику. Существует огромный и важный пласт русской культуры, которую русскоязычная диаспора может поддерживать и распространять. Помимо этого, важен интеллектуальный капитал. Ученые, которые приезжают, вносят большой вклад в западную науку.
T-i: Вы часто подчеркиваете опасность коммунизма и марксизма. Но ведь тоталитарные идеологии могут быть не только левого, но и правого толка. Не усилит ли их борьба с «левыми», в том числе действия Трампа против университетов?
АК: Такая опасность всегда есть, некоторые используют аналогию с маятником — он может качнуться и в другую сторону. Мы должны быть бдительны, но реальной опасности, на мой взгляд, пока нет. Основная причина — успешная дискредитация идеологий правых экстремистов, таких как фашизм или национализм. Вряд ли получится найти много людей, которые будут их защищать или пытаться возродить. На мой взгляд, это те идеи, которые были побеждены и разрушены, и сейчас опасности не представляют. Может быть, это изменится, но пока такой тенденции нет.
Что касается идей социализма и коммунизма, они не были побеждены. Во время холодной войны было некоторое понимание, что они враждебны идеям просвещения и гуманизма. Однако одновременно, частично благодаря широкой пропаганде советского режима, всегда существовал большой пласт людей среди интеллигенции, особенно в университетах, которые были заворожены левыми идеями.
Согласно данным ряда опросов, сейчас в академической среде явный имбаланс в сторону левых взглядов — более 60% преподавателей университетов идентифицируют себя как крайне левых и либералов (то есть умеренно левых) и только 12% относят себя к консерваторам или крайне правым. Показательно, что 40% профессоров являются экстремистами. При этом, если взять американцев в целом, они в большинстве своем придерживаются умеренных центристских взглядов.
T-i: Что вы думаете об отмене русской культуры в западных странах? Распространяется ли канселинг в какой-то мере на российских ученых?
АК: Я принципиально против отмены русской культуры, потому что такие бойкоты противоречат принципам гуманизма и просвещения. Опять же из-за того, что людей надо оценивать по их взглядам и вкладу в науку, а не по тому, к какой группе они принадлежат, тем более не по случайности их места рождения.
Случается, что журналы не публикуют российских ученых, правда, в большинстве нет такой дискриминации, кроме отказа в публикациях ученым, работающим в институтах под санкциями. Бывает, что не приглашают выходцев из России на конференции. А в некоторых европейских странах не принимают в университеты российских граждан в качестве профессоров и постдоков, например в Польше и Чехии, в том числе ученых, которые уже несколько лет живут в США, но хотят сменить место работы. Это и несправедливо, и неправильно с практической точки зрения, так как этим людям не позволяют вносить вклад в науку.
T-i: Есть мнение, что эмиграция ученых из России и их интеграция в западную науку — практически единственный способ сохранить российскую науку, которая на родине «задыхается» от цензуры и коррупции.
АК: К сожалению, на мой взгляд, это так. Мне бы, конечно, хотелось видеть Россию частью западного мира, видеть возрождение научных традиций, но этого пока не происходит. Поэтому сейчас фокус должен быть на людях. Я считаю, что мы должны пытаться помочь отдельным ученым внести вклад в науку. Если когда-нибудь в России произойдут положительные изменения, я уверена, что многие захотят вернуться и помочь русской науке восстановиться, но пока не вижу положительных тенденций.
T-i: А как сейчас обстоят дела с политической цензурой в американской науке? Поменяла ли она направление? Например, есть данные, что раньше была тенденция к дискриминированию сторонников консервативных взглядов. Однако с начала последнего срока Трампа наука столкнулась с цензурированием исследований, скорее, левого толка, например, касающихся гендерных вопросов.
АК: Да, политика Трампа тоже может привести к цензуре, но пока я не вижу таких эффектов. В январе 2025 года у нас в Университете Южной Калифорнии прошла конференция «Цензура в науке: междисциплинарные перспективы». Мы рассматривали, как цензура в науке проявляется в настоящее время. И основной механизм — peer-to-peer, то есть ученые сами себя цензурируют. Допустим, при приеме на работу или во время рецензирования статей другие ученые решают, кого они будут нанимать или публиковать. По данным опросов, 30% профессоров в Калифорнии открыто заявляют, что будут препятствовать найму, публикации статей и получению грантов консервативными коллегами.
Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!
В США у правительства ограничены возможности цензурирования науки, поскольку оно не контролирует научные публикации, профессиональные научные сообщества, исследования, проводимые в частных университетах, и наем на работу. У него есть прямой контроль только над национальными лабораториями. Контроль над университетами непрямой, только через их финансирование, то есть они могут закрыть какие-то направления, что мы сейчас видим, например, в NIH. Само по себе это не цензура, однако может являться политизацией науки, непозволительным вмешательством политики в науку. Здесь нужно внимательно разбираться, что приемлемо, а что нет.
Администрация Трампа отменила несколько тысяч грантов; есть база данных грантов в National Science Foundation и National Institutes of Health, можно посмотреть, какие именно. В NSF приостановили примерно 2000 грантов, большинство из них, на мой взгляд, нельзя назвать научными. Например, работы по определению обеспечения и поддержке расовой несправедливости в преподавании естественно-научных дисциплин, оценке биоэтических последствий создания сети коренных ученых в области геномики и так далее. В NIH ситуация другая, там больше грантов закрыли — более 5000, и многие выглядят как разумные исследования, например, касающиеся mRNA-вакцин. Я не специалист в этой области и не могу оценить их качество, но у нас есть повод опасаться, что политические причины приведут к тому, что серьезные исследования будут подавлены. Конечно, это неправильно, но пока реальной опасности я не вижу. Я с большим уважением отношусь к руководителю NIH Джаю Бхаттачарье и надеюсь, что изменения в структуре портфеля института проводятся на основе обоснованных научных аргументов, а не политических игр.
Солнечный свет — лучший антисептик
T-i: Как вы думаете, может ли государство оценивать, кто из ученых может, а кто не может получить грант? И должно ли?
АК: В принципе представители государства, лица, принимающие решения, политики, граждане должны быть включены в разговор. Вполне разумно, когда правительство устанавливает приоритеты, так как ресурсы всегда ограничены и надо решить, куда вкладывать деньги и что будет стратегическим направлением. Само по себе это не политизация науки. Вопрос в том, в какой степени и как это делается — если на основе серьезных рекомендаций ученых и экспертов, это разумно. А если как бюрократический микроменеджмент, то нет. Решения правительства об отмене финансирования научных проектов, на мой взгляд, нежелательны, но я признаю, что они могут приниматься, так как спонсирующие организации отвечают перед налогоплательщиками. Если они на основе серьезного анализа пришли к выводу, что какие-то направления надо пересмотреть, это позволительно.
T-i: Вы выступаете против цензурирования результатов исследований, которые могут быть потенциально «вредными» для определенных групп, как в журнале Nature Human Behaviour. Как вы думаете, где грань между цензурой и этическими стандартами? Допустим, ранее могла существовать такая «наука» как евгеника — такие идеи ведь должны как-то модерироваться научным сообществом?
АК: Даже если говорить про евгенику, надо различать исследования, которые пытаются понять, как генетика работает в определении человеческого потенциала, и конкретные неприемлемые действия, такие как, например, стерилизация. Что касается Nature Human Behaviour, с их стороны, на мой взгляд, самонадеянно полагать, что они могут оценить, как отдельные научные исследования способны повлиять на будущее человечества или отдельных групп людей. Работа ученых может привести как к негативным последствиям, так и к потрясающим прорывам. Из истории науки мы знаем, что предсказать эффекты открытий практически невозможно. Есть примеры, когда исследования, которые считались в свое время нежелательными, привели к прогрессу и к достижениям, которые улучшили общество.
Вред от научной статьи, чтобы ее можно было подвергнуть цензуре, должен быть совершенно очевидным и очень сильным. Если придумать гипотетическую научную работу, которую точно не надо публиковать, то это будет что-то вроде статьи, в которой на уровне школьников описывают, как дома сделать атомную бомбу или вывести пандемический вирус. Ситуации, когда подобная цензура может быть полезна, в принципе возможны, но на практике они крайне редки.
Кроме того, цензура в науке противоречит принципам просвещения. Знания должны принадлежать обществу, высокомерно считать, что оно не способно их оценить и правильно применить.
Конечно, нужны этические комитеты, оценка исследований и так далее. Они существуют, особенно в биологии и медицине, где надо получать специальные разрешения. Это тоже отдельная тема — как Institutional Review Boards (IRBs), то есть комитеты, которые рассматривают и одобряют исследования с участием людей, чтобы защитить их права, изменили свои функции со временем. Изначально они должны были предотвращать неэтичные исследования, такие, как, например, исследование сифилиса в Таскиги, где за пациентами с болезнью наблюдали, но не лечили, хотя лечение существовало. Это неприемлемо, такого не должно быть. При этом сейчас IRBs зачастую работают как бюрократическая цензура, например, в социальной психологии, когда ученым могут не дать разрешение на исследование из-за того, что вопросы, которые они задают, якобы повредят участникам.
В октябре 2025 года в Journal of Controversial Ideas вышел спецвыпуск с материалами нашей конференции по вопросам научной цензуры. Одна из статей как раз посвящена IRBs и тому, как их нужно реорганизовать, чтобы восстановить изначальную важную этическую функцию и не дать им превратится в еще один механизм бюрократической цензуры, который подавляет все подряд и подрывает научный прогресс.
T-i: Как ученые могут противостоять цензуре?
АК: Надо открыто выступать против нее. Конформистский подход — неправильный. Нельзя молчать и принимать цензуру. Есть такое выражение: sunlight is the best disinfectant, то есть солнечный свет — лучший антисептик. Если выступать публично и выносить злоупотребления на белый свет, это работает против цензоров. Я хочу процитировать одну из организаторов нашей конференции — Кори Кларк. Она сказала, что цензоры — словно воры драгоценностей, которые предпочитают действовать в темноте и надеются, что никто не заметит пропажи. Когда люди будут видеть, как редакционные коллегии противостоят выпуску исследований, они поймут, как такая кража знаний вредна науке.
T-i: В одном из выступлений вы говорили, что ученые должны о себе думать как о гражданах мира. Почему это важно?
АК: Наука и культура не должны знать границ. Они должны объединять, отражать наше общее стремление к истине. Мне всегда казалось, что неправильно про себя думать как про представителя какой-то группы идентичности или национальности. Важно то, что нас объединяет, а не то, что нас разделяет. Сейчас нужно это восстановить, так как есть тенденция, что люди пытаются себя определять по принадлежности к группам и приоритезируют их интересы. Однако интересы всего человечества всегда важнее, чем интересы отдельных групп, так как то, что важно для всего человечества, помогает всем.
T-i: Вы выступаете против культуры отмены ученых прошлых столетий, которые по нормам современной этики совершали неприемлемые поступки, — ведь они жили в другой реальности, и цензура мешает новым поколениям ученых правильно понимать историю науки. А какой подход должен быть к современникам? Оправдывают ли гениальность и научные заслуги аморальность, конформизм или более тяжелые проступки? Есть ли место в науке людям, которые придерживаются откровенно антигуманистических идеологий или провоенных взглядов?
АК: Это сложный вопрос. Если кто-то преступил закон, за этим, конечно, должны следовать санкции. Но меня волнует, что мы сейчас сильно расширили определение неприемлемых поступков, ушли в область морализаторства. Например, когда ученых бездоказательно обвиняют или подвергают гонениям за шутки, слова. Все это опять же несправедливо и вредно для науки. Еще меня волнует, кто будет оценивать, кому мы позволим решать, что является добродетелью, у кого правильные моральные принципы, а кто на неправильной стороне истории. Легко увидеть, к чему такая культура отмены может привести.
Я считаю, что граница должна проходить по поступкам, а не по взглядам. Допустим, кто-то поддерживает войну на словах по своим убеждениям — на мой взгляд, это сильно отличается от активной поддержки войны, например материальной. Последнее уже может предполагать санкции. Например, сейчас в США налагают разные ограничения на граждан Китая. Я вижу тут рациональное зерно, так как существуют исследования, напрямую связанные со стратегическими технологиями. Тут можно ограничить доступ, но относиться к этому надо деликатно и не переходить границу.
T-i: Вы много говорите о том, что в тоталитарных обществах наука всегда развита слабее, чем в либеральных плюралистических. Какие основные причины этого? Почему, по вашему мнению, наука не может развиваться в строго ограниченных режимом рамках и под госконтролем, даже если в ее развитие вливают огромные ресурсы?
АК: Центральный фактор — отсутствие интеллектуальной свободы, об этом писали многие исследователи, которые занимались социологией науки, например, Мертон. Если ее ограничивать или пытаться на нее влиять, это лишает ученых возможности исследовать новое, подавляет науку. Второй фактор — бюрократизация. Во всех тоталитарных режимах бюрократия является значимой силой. Все это ведет к тому, что ученых контролируют люди, которые не понимают науку и у которых нет цели ее продвижения.
Также в таких странах наука неэффективна. Во всех политизированных тоталитарных режимах контролируется, кто может делать научную карьеру, либо с учетом идентичности, либо по политическим взглядам. Естественно, это вредно, так как исключаются люди, которые могли бы вносить вклад. Например, в России долгие годы дискриминировали евреев, не давали им заниматься наукой. Другой пример — спутниковая программа СССР, успехи которой были достигнуты вопреки огромным барьерам. Только личный гений Королева, его пассионарность и административные способности позволили достичь результата. Но это стоило огромных усилий и средств, поэтому в итоге советская космическая программа проиграла в гонке на Луну.
T-i: Есть мнение, что инвестиции государств в военные технологии — один из важных факторов научно-технического прогресса, «война — двигатель прогресса» и так далее. Как вы к этому относитесь?
АК: К сожалению, я думаю, что в этом утверждении есть доля истины — на основе исторических примеров. Когда общество сталкивается с экзистенциальными угрозами, даже самые авторитарные режимы понимают, что должны дать ученым работать, ослабить контроль. Поэтому, например, физики в сталинской России избежали судьбы генетиков, так как нужна была атомная бомба. На Западе, когда Советский Союз достиг успехов в космосе, это заставило правительство переосмыслить роль науки, понять важность образования и мотивировать людей заниматься научными исследованиями. Даже Китай внедрил элементы меритократии в науку, так как там понимают, что без этого нет шансов преуспеть. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы политики и общество ценили фундаментальную науку не из-за страха, а ради ее созидательной силы. Но, судя по наблюдениям, страх иногда заставляет их принимать правильные решения.